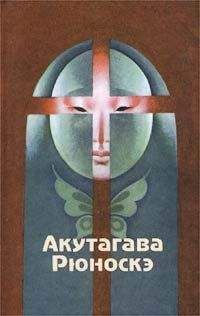– Пустишь, – сказал Шахтер и стал целиться в Карасика. – Если не хочешь, чтобы мы твоего сучонка вот тут прикончили!
– За нашего Корешка!
– Которого вы уморили!
– Но мы… Но мы никого… Правда… – И Сильва заплакала.
– А кто его убил?
– Не знаю.
– Вот видишь! Про нас ты ничего не знаешь!
– А ей нас не жалко!
– Пожалел волк кобылу…
Сильва все плакала, а Карасик в своей дурацкой рубашке так и торчал перед дулом. Ожесточение наше нарастало. Мы им кричали всякие слова и сами при этом распалялись.
– За что вы нас ненавидите? – крикнула Сильва, вытирая слезы рукавом халата. – Вы же звери! Звери!
– Замолчи, дура! – крикнул ей Наполеончик. – Не видишь, их нельзя злить! Они же такие… – И сам в испуге замолчал.
– Какие это мы? – спросил Бесик. – Интересно?
Лицо у Наполеончика пошло красными пятнами, он шмыгнул носом.
– Какие же? Ты, легавая шкура, отвечай!
– А я вам скажу, какие мы, – произнес Мотя спокойно.
С тех пор как погиб Корешок и Мотя сидел, рыдая, на дороге, я больше не видел прежнего Мотю, у которого все люди были хорошими. Он стал холодно-жестоким и при этом все время улыбался. Такая странная, не Мотина, улыбка с поджатыми до белизны губами, с глазами в упор, как это дуло.
– Так я скажу, какие мы, – повторил он, глядя на Наполеончика и улыбаясь ему. – А мы вот какие: дикари! Мы бешеные! Она говорит правду, мы звери! На нас бы отстрел, охоту затеять с таким ружьем, ведь мы из недобитых! А будь твоя воля, а не наша, ты бы не стал пугать да раздумывать, правда? Ты бы выстрелил? – Мотя улыбался, но губы его дрожали. – Ну, честно скажи… Хоть раз в жизни будь человеком: выстрелил бы? Да? Да?
Мы стояли сгрудившись и ждали, что скажет Наполеончик.
Он, конечно, понял, что тут, сейчас, решается его жизнь, жизненка… Вдруг стал при нас неистово креститься и повторять:
– Нет! Нет! Ребятки! Милые! Ребятки! Я никогда в жизни! Я же не злодей! Это у меня должность такая, что заставляют… Но сам я никогда!
– Клянешься? – спросил Бесик.
А кто-то добавил:
– Да пусть он Сталиным поклянется, чего он нас на Бога берет, которого нет!
– Клянусь, – тут же сказал Наполеончик. – Вот, товарищем нашим дорогим вождем, Иосифом Виссарионовичем!
– И нас не тронешь?
– Не трону!
– Никогда?
Сандра замычала изо всех сил, она не верила ни одному слову Наполеончика. Хвостик тоже не поверил, он крикнул:
– Серый! Пусть он еще Ворошиловым поклянется! И товарищем Калининым…
– Пусть он матерью своей поклянется, – предложил вдруг Ангел, который был среди нас, но молчал. – Что нас он никогда не тронет!
– Клянусь… Мамой родной… – пробормотал Наполеончик и заплакал, но как-то не по-мужски, сморкаясь и размазывая сопли по лицу.
– Я ему верю, – сжалился Ангел.
А Шахтер опустил ружье, но произнес с угрозой:
– Верю каждому зверю… Медведю и ежу, а ему погожу…
– Ладно уж, – остановил его Мотя, но мне показалось, это он себя так сдерживал. – Пошли поминки делать… Я-то уж знаю, сколько они запасли!
И все поняли, что злость спала, а это как сигнал к празднику, и с легкой душой поволокли на улицу вещи и продукты. Вытащили стол и стулья, разожгли костер, а потом несли и несли всякие соленья из подвала: огурцы, помидоры, яблоки и сваливали в огонь. Конечно, мы еще на ходу дожирали, в память Корешка.
А Сверчок сказал:
– Если он смотрит оттуда, он, наверное, облизывается! Ему бы тоже пожрать за счет Наполеончика! Он в огороде тут огурец украл… И то был счастлив…
– А он видит, да? – спросил у меня Хвостик.
– Видит! Конечно, видит!
– Он радуется, что мы жрем? Правда?
– Ну, а как не радоваться! Ты бы обрадовался?
– Я бы радовался, – признался Хвостик. – Только в живот уже ничего не лезет… – пожаловался он. – Вот если бы каждый день так.
– А мы будем теперь шуровать их каждый день! Хочешь?
– Конечно, хочу, – ответил Хвостик. – Мне понравилось их шуровать! А потом праздновать!
Так мы поговорили и при этом сваливали в костер все ихние припасы, чтобы ничего после нас им не осталось. Мы так понимали, что эти, которые против нас, если и не умрут, ползая по полу, то уж останутся голыми, как мы… Мы их Карасиком не зазря стращали, стоило видеть, как они перепугались при мысли одной, что он станет такой, как мы!
Кем же они нас в таком случае считали?
Выродками? Исчадием зла? Дьявольским наказанием ихнему поселку, ихним городам, ихней столице Москве… Ихней стране?
…Я посмотрел в щель, но опять ни насыпи, ни бугра не стало видно. Поняв, что смотреть пока нечего, снова повернулся к Бесику и Моте.
Я подумал о Моте: не может быть, чтобы полеживал он со своей берданкой и ничего в жизни не боялся, а мы боялись. Вот юмор, что это тот же самый Мотя, который считал людей такими хорошими и слыл любителем птиц, он всех их по Брему знал назубок, чесал наизусть, а однажды из пасти у кошки вырвал птенца. Может, он думал, что Наполеончик с рассветом выйдет перед сараем и крикнет миролюбиво, мол, хватит, ребятки, валять дурака, пошутковали, а теперь лапки вверх. Выходите, мол, а я, как обещал, ничего вам дурного не сделаю.
Тут я заговорил, чтобы не молчать.
– А вот в «Истории» написано, как эти… Шумеры жили, они вроде первые на земле…
Все молчали, но, кажется, слушали.
– …У них там на глиняных дощечках нацарапано про начало и конец мира… А на одной дощечке они даже стихи такие написали: про жалость…
Никто на мои слова не откликнулся. Лишь Сандра промычала и потерлась щекой о мое плечо.
А я подумал: мама родная, воевали эти шумеры, а написали стишки какие-то о жалости… «Жалобная песнь для успокоения сердца»… Они… самые первые в мире… Но сейчас я еще подумал, что писали бы о войне или о Боге, ну понятно… Их там, как нас в сарае, осадили. А потом подожгли… Только эти дощечки не горят, они потому и сохранились, что от огня еще тверже стали! Но ведь сами-то шумеры погибли, никакая глупая жалость, никакие стихи им не помогли.
Такая вот поучительная история. А все о том, что сила в этом мире – главное, а не ихние сантименты, которые никому не нужны. Это мы вчера Наполеончика пожалели, а вот пожалеет ли он нас, неизвестно.
Впрочем, известно. Об этом и Маша голосила, что не пожалеет… Да я и не об этом… Я о том, что пропадем мы тут, как те неведомые шумеры, и даже на дощечках не останется, кто мы такие, как жили и как умерли.
А ведь мы тоже народ, нас мильоны, бросовых… Мы выросли в поле не сами, до нас срезали головки полнозрелым колоскам… А мы, по какому-то году самосев, взошли, никем не ожидаемые и не желанные, как память, как укор о том злодействе до нас, о котором мы сами не могли помнить. Это память в самом нашем происхождении…
У кого родители в лагерях, у кого на фронте, а иные как крошки от стола еще от того пира, который устроили при раскулачивании в тридцатом… Та к кто мы? Какой национальности и веры? Кому мы должны платить за наши разбитые, разваленные, скомканные жизни?.. И если не жалобное письмо (песнь) для успокоения собственного сердца самому товарищу Сталину, то хоть вопросы к нему.
Вопросы-то задать можно, чтобы не совсем безнадежно слепыми уйти из этого мира, отдавая концы!
А в том, что мы обречены, я, как и остальные Кукушата, не сомневался. Сейчас ли, потом… Крикнуть бы на весь мир, проголосить, чтобы вздрогнули, как от наших песен, в своих теплых кроватках поселковые и опомнились, и тихо спросили друг друга… И пришла бы к ним такая элементарная мысль: да что же мы творим, братцы мои, что губим мальцов, подрост наш, который и есть наше будущее?
Бесик сказал вдруг:
– Значит, они все поняли… Эти…
– Шумеры?
– Неважно. Шумные или какие… Они поняли, что мир недолог, как ни пой, а придут вот такие легавые и все порушат… Вот тебе и конец мира…
Ангел вдруг голос подал:
– Письмо надо товарищу Сталину написать! И закопать! Он придет и найдет… И все узнает!
– Заткнись! – прикрикнул на него Бесик. – Менты услышат. – И уже мягче: – Чего рассиропился… Письмо, письмо… О чем письмо-то? И на какой глине ты собираешься его писать? Разве что дегтем на сарае?
Сандра промычала, она была согласна с Бесиком. Да и так понятно: мы не древние люди, чтобы писать о жалостливых слезах, которых у нас нет. А о злобе и писать не стоит. А у нас одна злоба осталась. Да еще озверение против всех: против легавых, против поселка и против других поселков! Да против ихнего мира вообще. И нас, как бешеных собак, Сильва-то права, права, нельзя выпускать из этого сарая… если по правде. Мы нелюдь, зараза, мы чумные крысы, которые могут перекусать всех, кто попадется им на пути.
Это я представил себя так со стороны и всех остальных Кукушат представил. И я понял, что только так могут про нас всех они думать. Те, что вокруг сарая, да и весь поселок, и весь остальной мир…
Кроме товарища Сталина в Кремле.
Он один так думать про нас не может, потому что он друг всех советских детей. Не зря мы ему телеграмму дали.