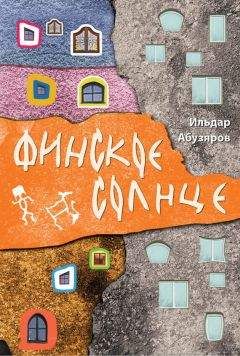Но ты все равно опаздываешь на пятнадцать минут. Официант говорит, что старик ушел пару минут назад, не доев бифштекс с кровью. Ты пытаешься найти его на набережной, у пивной забегаловки с красными раками и мордами и даже в самых злачных местах. Идешь уже медленнее, вглядываясь в лица и души мужчин: капитанов и матросов. Теперь тебе кажется, что время течет по-другому…
Психолог посоветовал тебе ходить во всем ярком, чтобы мужчины заглядывались. И ты одела красное, и тебя разглядывают с интересом все, кроме матросов мореходки в синих беретах, что так привлекают внимание проституток и вдов… Синие шапочки с помпошкой – образ твоей первой, с помпой, любви.
16
Потрясающая история потому, что тем матросиком, к которому ты ходила на учебный фрегат, мог вполне оказаться и я. Я ведь тоже учился в мореходке и тоже носил синюю шапочку-берет с белым помпоном.
Я тоже, как и многие мои сокурсники, водил во время дежурства в каюту девиц. Проституток и школьниц-нимфеток, отчаянно жаждущих первой любви. Разве разберешь в темноте бара, кто здесь проститутка и где здесь любовь, хоть первая, хоть вторая.
Сколько их было? Я начинаю мысленно загибать пальцы, вспоминая и ловя себя на мысли, что многих лиц и тел в сумерках баров, улиц, коридоров и кают я так и не разглядел. И еще думая о тех, о расставании с кем я пожалел. И так и не смог никого вспомнить, никого, кроме тебя.
– Ты, кстати, чем-то похож на того матроса, – вдруг делает для себя неожиданный вывод она. – Поэтому, может быть, я на тебя запала. Только прошу: не оставляй меня, как они, – за палубой.
Удивительно, как сближает секс, как ты раскрылась! Но для меня неожиданным откровением твои слова не стали. Мы ведь все тогда были похожи. Все на одно лицо, с короткой стрижкой. В униформе, одинаковые по комплекции. И в конечном итоге неважно, кто это был. Может, я, а может, мой друг Марк.
Но опять я этого не говорю. Я уже вообще почти ничего не говорю. А только курю, все более погружаясь в сигаретный морок и еще в свои мысли. Отдаляюсь, скрываюсь вместе с сигаретой в морском тумане…
Это бегство – не проявление ли оно моей нелюбви? Ведь ты говоришь такие важные для тебя вещи – скобка на зубах приучила тебя говорить только самое важное. “Lady sings the blues” – несется с катушек вслед за тобой. Эта песня контрапунктом-рефреном преследует всю твою речь, все твои откровения.
“Lady sings the blues, nothing more…”
Билли Холидей – мое чудо света.
Леди поет блюз. Ничего более. Леди поет блюз, потому что ей плохо. Я говорю вам: она знала мужчину. Я говорю вам: она чувствовала боль. И теперь она уже никогда не будет петь Ничего, кроме блюза. Как бы ты ни просил…
– примерно так, если передать вкратце.
– О чем ты сейчас думаешь? – вдруг прервав поток моих мыслей и песню божественной Холидей, спросила она.
Спросила, потому что не знала, не понимала языка мужских жестов.
Я промолчал.
– Что ты обо мне думаешь? – продолжала настаивать она, исправив вопрос на тот, что действительно ее интересует. И почему все женщины рано или поздно задают этот дурацкий вопрос?
– Ты хорошая, – сказал я, не зная, что еще ответить. – Ты просто классная и падшая.
– Не говори так.
А я трус, я подлец, как и все мужчины. Я бежал от любви и нежности к проституткам, к тысячам других женщин. Ведь мужчины подсознательно выбирают тех, кто их не любит, – чтобы потом не чувствовать себя подлецами.
Так я подумал, а сказал, что я, при любом раскладе, хуже ее и что нам пора выкарабкиваться.
И я начал выкарабкиваться, высвобождая свою затекшую и превратившуюся в бревно руку из-под острого подбородка – “подожди-ка”.
Так я начал выкарабкиваться один. А тебя пока побоку. За борт.
“No more lovers” – “Никаких больше любовников”. “That's why I'm lonesome” – “Вот почему я одинок” – блюз Биг Боя Крадапа. Вой большого мальчика – тому подтверждение.
17
Извини, но женщине не место на корабле одинокого морского волка, что пока безрезультатно ищет свою пристань. Возможно, из-за неразборчивых связей.
Извини, я ничего не могу поделать, решаю я для себя, раз уж я “сорвался с якоря”. Разве только – залечь на дно. И лучше за меня не цепляться. Не ложиться на мою ключицу подбородком, щекой – “подожди-ка”, – я освобождаюсь от твоей тяжести. Не касаться постоянно меня губами. Не цепляться за меня, как скобками, своими губами. “Unchain my heart” – “Освободи от цепей моё сердце” Рэя Чарльза и тут же “Born to lose” – “Рожденный терять”.
– Лучше на меня не полагаться, я пойду ко дну один, я беру этот грех на себя, – шепчу я, не понимая к чему. – Ведь грех всегда на том, кто первый решает расстаться. Ты не падшая, ты классная, ты просто ангел. “You're gonna miss me when I'm gone” – “Ты будешь скучать по мне, когда я уйду”, – Мадди Вотерс, исполнитель блюзов. “И не говори о своей любви” – “And don’t say about your love”.
Высвободившись, я медленно поворачиваюсь набок, кренюсь, словно черпнувшее изрядной порции пенной волны судно, – все круче и круче влево, – и вот я, перевернувшись, уже иду вниз лицом, погружаюсь на самое дно, в мягкий ил подушки. Зарываюсь ребрами и ключицами в хрустящий песок матраса, словно скелет изъеденной кистеперой рыбы, словно остов гигантского корабля или синего кита.
“Ghost of yesterday” – “Призрак вчерашнего” и “Trav'lin all alone” – “Путешествуя в одиночестве” Билли Холидей.
А ты все еще говоришь, говоришь о второй любви, об одном проценте, который ты увидела в старике от первого матроса, и попыталась зацепиться. А я чувствую, как мое сознание и веки тяжелеют, погружаясь в бытие сна… До моего мозга, как до моллюска в закрытой раковине, доходит только один процент из всего сказанного тобой. Потому что уже утро. И твои слова сливаются с гулом портового колокола – значит, точно утро.
Светает, легкий воздушно-морской оттенок голубого и серого проникает в комнату. И еще рыжие медузы-всполохи зарницы слепящим набатом солнца врезаются в шторы…
В дреме я словно нахожусь на мостке между реальностью и сном. На длинном, длиннющем и узком, оттого что длинный. И вижу яркое-яркое солнце, выползающее из-за горизонта. И тебя, длинноногую, хрупкую. Стоящую на самом краю на каблуках. С копной рыжих волос, растрепавшихся на ветру. “The sun gonna shine in my door some day” – “Солнце будет светить в мою дверь однажды” – все того же Бига Билли Бронзи.
Мост вантовый, подвешенный, напоминающий трап между пирсом и кораблем, и еще от отсвета твоих волос – золотой Сан-Францискский. И я вижу, как ты срываешься с этого моста или бросаешься в Золотой залив. И уходишь вниз под воду, светясь копной волос, стремительно, словно торпеда, поражающая корабль в самое сердце. Словно падающая звезда – самое время загадывать желание…
Наверное, уже не утро, а вечер. Наверное, я проспал весь день. Или в полудреме вижу первые видения, в которых ее рассказ и твоя смерть смешались, переплелись, слились в единое целое.
18
Есть такое мнение, что человек после смерти видит мир призрачно, словно из-под рябящих волн. А я, словно со дна морского, наблюдаю за тобой. Я вижу, как ты ходишь своей нереальной походкой по комнате. Такой странной, невесомой, словно по воде, по глади морской, – ходишь и собираешь разбросанные по полу вещи: жемчужные раковины лифчика, колготки-кораллы красновато-телесного оттенка.
Стираешь влажной салфеткой с семи чудес света своего тела пот и разлитое по бедрам море. И еще косметику с глаз: тени, превратившиеся в тину, коростовый нарост затвердевшей за ту вечность, что мы провели вместе, за приливы и отливы тысячи взглядов, туши. Лицо каменное и бледное. Только все еще сверкающая копна волос, как рыжий йодированный мох.
Ох, уж эта твоя походка, – я даже поймал себя на мысли, что узнаю тебя по походке, мягкой, вкрадчивой и одновременно тяжелой, когда ты идешь навстречу своим очередным крушениям, идешь по длинному мосту, борясь сама с собой, со своими желаниями и страхами, чтобы только еще раз поцеловать меня в щеку на прощание – последняя надежда – или дать пощечину, бросившись с моста. Еще раз напоследок пытаясь удивить и зацепить – решительная неуверенность.
– Милая, это ты? Как хорошо, что ты вернулась, – кажется, улыбнувшись во сне, сказал я. В ответ только шелест то ли волны, то ли собираемой одежды. Будто мы по две стороны зеркальной воды, будто между нами преграда из пропасти.
И поцелуй ее был тоже странным – я это помню, – вроде бы по-утреннему нежный, влажный, но, с другой стороны, тяжелый, как печать, как остатки ночи, придавливающие навсегда своими руинами-волнами.
Поют птицы, – кажется, это они меня разбудили, – шепчутся рыбы и тени: не ты ли там, в углу? Вся природа будто еще разговаривает с тобой, словно со Святым Франциском, весь тварный мир приветствует тебя, обсуждает, осуждает:
– Как ты могла? Зачем, зачем ты это сделала?
И только нам уже никогда не поговорить, не высказаться.