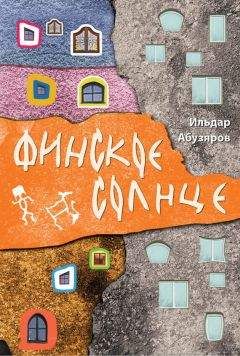– Милая, это ты? Как хорошо, что ты вернулась, – кажется, улыбнувшись во сне, сказал я. В ответ только шелест то ли волны, то ли собираемой одежды. Будто мы по две стороны зеркальной воды, будто между нами преграда из пропасти.
И поцелуй ее был тоже странным – я это помню, – вроде бы по-утреннему нежный, влажный, но, с другой стороны, тяжелый, как печать, как остатки ночи, придавливающие навсегда своими руинами-волнами.
Поют птицы, – кажется, это они меня разбудили, – шепчутся рыбы и тени: не ты ли там, в углу? Вся природа будто еще разговаривает с тобой, словно со Святым Франциском, весь тварный мир приветствует тебя, обсуждает, осуждает:
– Как ты могла? Зачем, зачем ты это сделала?
И только нам уже никогда не поговорить, не высказаться.
Я вспомнил этот твой прощальный поцелуй сразу же по пробуждении, он обжигал и звенел тяжелым колоколом в пустоте головы и сердца. И еще в ушах, даже по прошествии стольких лет.
Пустота, пустозвонство всего того, что я рассказал. Ужасно стыдно.
И ужасно плохо, когда просыпаешься после бурной ночи, после опьянения, после кораблекрушения в мятой, липкой кровати. Мокрые простыни. И утренний туман пронизывает комнату, смешиваясь с запахом ее тела, ее пота, терпко-солоноватого, пронизывает все пространство и все предметы, начиная от спинки кровати и кончая сигаретным дымом. Стоит понюхать свое предплечье…
Пустые бутылки стоят на столе, наполняя зеленым нереальным отсветом комнату… И становится окончательно понятно: Вдова Клико – совершенно пустая баба, не несущая внутри себя никакого послания. А шоколадка – лишь красивая обертка с крохами былой сладости и горечи, ничего в ней нет необыкновенного. И даже надпись на обратной, белой, стороне: “Если вдруг у тебя появится желание продолжить наше ночное плавание, ты сможешь найти меня по телефону…” – не вызывает никаких эмоций.
Переполняющая меня пустота заставляет принять решение: никогда не звонить по этому телефону. Извини, но я тоже оставлю тебя. Второго свидания, второго раза не будет.
Я всю ночь, пока не заснул, вслушиваясь в твои слова, думал и прикидывал: смогу ли я и захочу ли увидеть тебя во второй раз, пройти все по новому кругу?
И хотя я знал, что второй раз – самое главное, второй раз – это еще один шанс, но такого второго раза “пустоты” я уже выдержать не смогу. И не хочу.
И ты это тоже понимаешь, оказавшись на улице ранним утром в своей яркой, так неподходяще вызывающей для начала рабочего дня одежде и с побелевшим лицом. Понимаешь, как в прозрении, что тебе не выдержать столь яркого повторения и что я точно никогда не позвоню.
Навстречу полусонно движутся матросы и портовые грузчики, с явным удивлением рассматривая тебя: одетую так броско, как наряжаются только на самые важные праздники, на первый утренник и звонок, на свадьбу, присягу и похороны. И еще, наверное, на собственную смерть – когда хотят покончить со всем разом.
Я представляю, как она пошла по утренней набережной одна, то и дело оглядываясь на мой скрывающийся в тумане дом, словно всматриваясь в призраки любви. “In your own sweet way” – “Твоим собственным сладким путем” – как там у Дейва Брубека?..
Может быть, ты даже сняла туфли-лодочки и положила их в пузырящийся пакет, чтобы не иметь возможности спастись, выкарабкаться, выплыть. И примерялась к леденящей осенней воде, к обжигающему холоду через лужи, хотя что может быть ужаснее моей холодности…
Ветер окончательно спутал ее безумные после ночи мысли: скрыться от мужчин навсегда в тумане, покончить с собой в Золотом заливе… И растрепал ее волосы, уже предчувствующие смерть, словно вставшие дыбом от ужаса бездны водоросли.
19
И зачем, когда еще твой прах-призрак витает над морем, зачем все это, зачем я рассказываю тебе о своей нелюбви к другой женщине?
Не святотатство ли это – рассказывать, как я после твоей смерти вышел на улицу и нашел новую девчонку на ночь, шлюху для развлечения? К тому же красивую, чем-то неуловимо похожую на тебя. Подумал: может, это твой дух вселился в нее, – хотел тем самым оправдаться перед тобой. Попытаться реализовать нашу нелюбовь еще раз…
Но на самом деле, как выяснилось, пережить замещение, пережить с ней еще раз нашу нелюбовь и наше падение и очутиться на дне морском рядом с тобой, со своей первой нелюбовью.
Нет, я не считаю себя повинным в твоей смерти. Скорее повинным в своей нелюбви к тебе… И это моя беда, что получилось всего лишь показать, как наши места после смерти с легкостью занимают другие. И как твое место с легкостью заняла другая и так же с легкостью его потеряла.
Что называется, оттрахал и выгнал. И только волны осушили невидимые слезы.
Мне вовсе не трудно все начать сначала, как предположила наш общий друг Рита. Трудно начать по-другому. А значит, эти отношения с женщинами постоянны и имеют право быть описанными.
И теперь мне ясно, зачем я начал писать эту историю. Я начал ее писать в противовес всем мною прочитанным романам о любви. Все только и делают кругом, что говорят и пишут о некой любви. Кругом столько всего прекрасного написано о любви. И эти романы вытесняют наши с тобой отношения за борт, так что я даже не знаю, имеют ли они право на жизнь.
Более того, любовь возведена в некий культ. Культ прекрасной дамы, когда-то на востоке бывший образом любви к богу, подменен буквальным смыслом.
Но мне от этого не легче, мне становится больно, когда культ любви своей агрессивностью вытаптывает на корню наши незатейливые отношения, делая их чем-то второстепенным, ненужным, не имеющим ценности… Даже под водой, там, где корабли затоплены в шахматном порядке, вытаптывает – морскими конями.
Когда-нибудь любимая жена или сын спросят меня: откуда такое странное желание написать о нелюбви? И действительно ли я в жизни никого не любил? Возможно, в будущем не найдется слов или даже мыслей, а пока плазма все еще бурлит и пока я не связан никакими глупыми, кем-то придуманными и возведенными в культ обязательствами, я знаю ответ: нелюбовь – смысл всей моей жизни.
Посмотри, кругом столько красоты: море, порт, туманное утро, чайки парят. Кругом столько красивых девушек. И тем не менее смысл моей жизни – нелюбовь. И я вновь и вновь удивляюсь, как можно не любить всех этих женщин на улицах такого прекрасного города и на фоне такого безбрежного ласкового моря. И это удивление режет меня нестерпимой болью. Да, я страдаю от своей нелюбви к тебе. Даже сейчас…
И я наказываю себя полным крушением надежд когда-нибудь полюбить. Один на дне, вечно Твой и не Твой. Я.
1Эта история, как и многие другие, началась с порочных фантазий о праздности. Ибо все фантазии суть диванные размышления о том, как без особых усилий сорвать куш покруче. Да еще нанять Сизифа, мающегося без работы у подножия светской горы “Монблан”, чтобы он помог эту ношу взнести на самую вершину, именуемую в свете “Олимпом”. Главное, чтобы потом всю оставшуюся жизнь в окружении юных жен провести на Сейшелах, Канарах, Ибице – под медитативно-сонную музыку “Кафе дель Мар”.
Учеба в вузе казалась мне пустяковым делом. Экзамены я сдавал легко, а потому не особо утруждал себя посещением занятий и чтением книг на древнегреческом и старофранцузском. Меня занимали поиски денег на студенческое житье-бытье. По вечерам я захаживал в игровой зал, раскинувши свои сети в запруде гипермаркета. Там я надеялся за одну монетку выиграть целое состояние. Сумма стипендии мне тогда казалась приличным состоянием. Денег не хватало не то что на кафе и очаровательную собеседницу в прикиде а-ля княжна Тараканова, а даже на ужин в окружении тараканов в грязной студенческой столовой.
Нет, я пока не играл сам. Я лишь наблюдал, чертил чертежи, рисовал графики, высчитывал серии. Будучи студентом экономического факультета, я рассуждал, что у этих аппаратов должна быть система.
Но уже тогда я ловил себя на мысли, что мне нравится мелодия звенящих монет. Музыка легких денег увлекала, завораживала. Она снилась мне по ночам. А перед глазами так и мелькали сундуки с пиратскими сокровищами на дне морском, по которым медленно ползает рука-клешня, словно в наслаждении поглаживая свои несметные богатства. Только приглядевшись, можно было разобрать, что это клешня краба или рака.
2И вот однажды эта клешня добралась до меня. Она буквально свалилась мне на голову, зловеще нависнув над мордами красных плюшевых коней, купавшихся в огромном стеклянном кубе. Завороженный, я остановился у игрового автомата, наблюдая, как мальчик пытается зацепить, то машинку, то мышонка, то собачку с остекленевшими от холода и одиночества глазами-пуговицами. Или дотянуться до милых котят, таких жалостливых на вид, словно их несут топить на дне короба. И все они в этом коробе сбились и лежали вповалку на дне жизни, неестественно переплетя туловища и тараща слепые глаза.