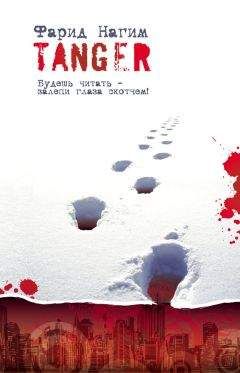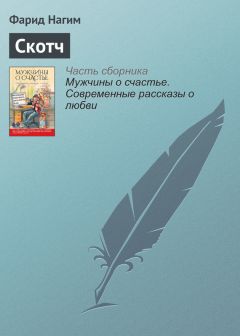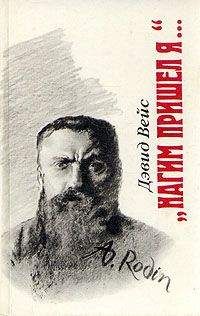Ознакомительная версия.
Мы не успели съездить в Гурзуф, к той скамье, на которой сидели в ноябре девяносто третьего и которую я вдруг с такой счастливой грустью и надеждой вспомнил в заснеженной Алмате, когда Аселька со мной уже не разговаривала. А так хотелось снова услышать тот шум прибоя, пить вино, бесконечно убегать глазами в море и оставаться рядом с собой.
Темно. Старик тащит с рынка какой-то щит. К ноге прицепился пакет и шуршит. Старик, то ли от лени, то ли от усталости, не снимает его и бредет мимо светящейся витрины английского магазина «BRADLYS».
Пили еще вино в открытых осенних кафе. И так приятно пьяному мочиться в писсуар заброшенного пляжного туалета, вжиматься лбом в стену и слушать шум прибоя, и чтобы это никогда не кончалось.
А потом уже ночью поднимались с ним в кабине по канатной дороге. Тихо проплыли рядом с башней, большой циферблат остановившихся часов, лунная зыбь на жестяной крыше. Шум набережной и большой Кировской улицы все тише, слышно как скрипит своими суставами кабина, как гудит колесико. Она утло вздрагивала при каждом нашем движении. Мы проплывали по-над дворами с умывальниками, над старыми жестяными крышами, мимо освещенных занавешенных окон с тенями людей, мимо больших мрачных санаториев с пустыми, занесенными листьями террасами, расступались и клонились по бокам кипарисы, опадала вниз дорога. Полого спускались и отражались, дрожали в море огни набережной, маяк равномерно ронял зыбкий столб. И вся ночная Ялта сияла по обе стороны под нами, будто отраженная в воде. Когда мы слышали людские голоса во дворах, мы замолкали.
– Ребята, огоньку не найдется? – спросил кто-то из темноты под нами. Мужик сидел на корточках на опорной стене дороги и смотрел на нас.
– У меня спички есть! – обрадовался Серафимыч.
– Вот ловите.
Мы сбросили ему коробок.
Было видно, как выходит в море корабль. Скользя по черному стеклу воды, он бесшумно и мощно разворачивался на световых столбах из иллюминаторов. А потом печально прокричал, прощаясь с городом.
– Вот, сейчас покажу тебе, – он поправлял рукой волосы и копался в сумке, снова поправлял волосы.
Я ждал.
Он осторожно достал из сумки маленький сверточек и развернул.
– Вот, смотри.
На его ладони лежал старинный, четырехгранный, кованый гвоздь.
– Это гвоздик из крыши Чеховского дома в Ялте, мне плотники дали.
– Ничего себе.
– Он у меня уже семнадцать лет, это мой талисман. Я его никому не показывал.
– Можно, я посмотрю?
– Тебе можно, – он с опаской протянул мне его.
Я смотрел, а он мучился и наслаждался тем, что показывает его здесь, где была опасность выронить и потерять навсегда.
– Надо же, даже не ожидаешь, что он такой тяжелый. Возьми…
– Да, – он вздохнул с облегчением, сам того не замечая, и так же аккуратно завернул его и спрятал в сумку.
Вечером, доставая из холодильника курицу, он разбил тарелку.
– Жалко, это была моя любимая английская тарелка.
Горячей воды не было, он мыл кастрюлю холодной водой с содой и два раза выронил на пол крышку. Это неожиданно раздражало.
– Что я сегодня все роняю? – шептал он.
Потом, когда он варил суп, неудачно выскользнула стеклянная крышка и плеснула на него кипящим жиром.
– У меня сегодня, наверное, опасный день.
А под конец он порезал палец осколком тарелки.
– Точно, опасный день!
Он смазал палец йодом, а я залепил его пластырем.
Саня Михайловна затаилась в своей комнате.
– ………рум…вар, – сказал он и грустно задумался.
Я пьяно и внимательно посмотрел на него. Все, что попадало в поле зрения, не сразу проявлялось в моих глазах – предметы как бы догоняли взгляд.
Он вздрогнул, как во сне, или у него локоть соскользнул, и заговорил. Потом задумался. Склонив голову набок, смотрел в потолок. Глаза блестели, зрачки дрожали, дергались. Он что-то сказал и хотел еще говорить, но потому что мог говорить долго, он молчал и гладил пальцами край стола. Лицо его разгладилось, освободилось от мелкого мусора морщинок и складок, скрывающих его истинную красоту. От грусти и боли расставания он стал мягким, светлым и женским – женщины всегда искреннее, ярче и трагичнее мужчин, когда грустят перед разлукой. Мне хотелось потрогать его. Чтобы удостовериться, что это он.
– …го ноября 1982 года в Ялте было страшно холодно. Приехал Болотников. Он тогда женился на еврейке Тане и все говорил, что у Набокова жена тоже еврейка. Мы с ним поехали в Севастополь, сидели в этом кафе в Херсонесе и в последний раз видели Брежнева в кадре, он только едва так делал рукой, а через два дня умер. Потом смотрели на море, и в траве, под ясным солнцем копошилось что-то, какая-то скорпиона. Болотников пересказал мне свою прекрасную повесть, напечатанную в «Юности», говорил о нашей вечной дружбе.
Он говорил, подперев голову рукой, веки опущены, лицо замерло, только губы шевелятся, а я пьяно смотрел на него.
– Ясный синий свет жизнь прокручивает. И уже в этом свете его трехкомнатная квартира в Москве, его Таня, пишущая бульварные романы под псевдонимом Таня Волконская, и он, Набоков, моющий посуду, опубликовавший одну-единственную повесть, предавший нашу дружбу.
Странно, этот человек любит меня. Любит так, как никого никогда не любил. Любит так, как и меня еще никто не любил. Любит так, как будто бога нет.
Загорались и гасли окна в общаге напротив, синели во тьме телевизоры, мелькали фигуры, вспыхивали огоньки сигарет, а мы сидели на этой кухне, как в светящейся колбе. И я физически чувствовал его любовь на себе, как тепло, как загар. Он так прощался, что становилось страшно, казалось, мы никогда больше не встретимся.
И я вдруг понял, что это последняя в моей жизни любовь. Скорее всего, так, потому что такого не может быть два раза.
– …самоубийца Лида покончила с собой в три часа ночи. А в Ялте был дикий гололед, и машина не могла ее подобрать и увезти в морг. На каких-то тряпках ее несли в гору милиционеры.
Я хотел разлить вино по бокалам, а оно не лилось. Он сказал, что надо вынуть пробку, но я и сам это уже понял.
Потом звонил телефон.
– Что там? – спросил он.
– А, позвонил кто-то, и тишина, – пожал я плечами.
– Такие щелчки и молчание, да?
– Ну да. Гулкое молчание, а что?
– Это местный гэбэшник, по старой памяти.
– Как понять – гэбэшник?
– Бывший кагэбешник, ныне безработный… Так они звонили мне и молчали в советское время. Виселицы рисовали в письмах. Уничтожали меня… А ты должен что-то написать, я знаю, я верю в это.
Только он один и верил в это.
– И я хочу выпить за тебя и за твое творчество.
Он говорил о моем таланте, и мне показалось, что я безмерно талантлив, я с такой силой ощутил и ясно понял это, что меня удивляло, как я еще ничего не написал, и верилось в то, что я напишу очень много и очень хорошо. И казалось, что даже уже написал. Он был гипнотизер, наверное.
На вокзале я отстранено обнял его, и вдруг он сделал такой звук горлом, что я вздрогнул – точно такой же звук делала Ольга Шнуркова, которая преданно и бессмысленно любила меня в школе.
– Малако, сметана, яйца, туарог… Малако, сметана, яйца, туарог… – как всегда по утрам кричал под окнами крымский татарин.
Я съел вареное яйцо, будто попробовал мясо женщины, мягкое, гладкое, сырое, холодное. Во рту, на нёбе, на кончике языка чувство женского, ощущение женской кожи. Я вдруг услышал этот нежный, сыроватый, резиново-детский запах женских сосков. И снова губы и кончик языка тронула плоть соска. И ладонь сама вспоминала лак и мучительную шероховатость всего женского тела, жесткость волос, и все-все.
Я лег и встал, посмотрел на вещи и предметы вокруг, казавшиеся особенно обыденными и немыми. Посмотрел на мучительное море. Потом на чаек, заблудившихся в девятиэтажных скалах общаги напротив и кричащих.
Я не избавился от своей муки, она только затаилась, как будто копила свою страшную силу.
Ходил по набережной как в тумане. Навстречу попадались одни и те же люди. Пошел на Массандровский пляж. Сильный ветер трепал куртку. Сидели люди на ветру за столиками, хлопали большие зонты кафе, сдувало салфетки, две тетки разливали вино по бокалам. Летали чайки, и все время казалось, это что-то или кто-то падает вниз. Падает-падает и вдруг взмывает против законов природы. На тележках стояли вынутые из воды скутеры, и от этого было еще холоднее. Снова слышен прибой. Утопиться, что ли? Вот было бы самое время и состояние. На холодной гальке пляжа сидела по-турецки девушка и читала книгу, ни на кого не обращая внимания. На странице схематичная фигура человека. Как можно вот так сидеть и читать? Какие-то хиппи лежали на своих резиновых, грязных ковриках, один из них был в юбке – она, оказывается. Дальше отдельной группой компания азербайджанцев. Две девушки с ними. Парень тянул одну из них за ногу в белом трико, все смеялись. Дальше, напротив парня сидела девушка в одних трусиках и прижимала колени к красиво сплющившейся по бокам и побелевшей груди. И было мучительно больно смотреть на худенькую спину с обозначившимися ребрами и округлую тяжелую полную грудь, а со спины большой таз и складки там, где приподняты и расставлены чуть в стороны бедра. И я делал вид, что не смотрю. Дальше у стены сидели и ругались бомжи, потом семья, потом распластанный толстый мужик, дальше еще один, уткнувшись головой в гальку. Как будто рогом уперся. Потом уже машины и деловые мужики. И длинно шипел прибой. Я пошел назад – семья, бомжи, азербайджанцы, опять тянет ее за ногу. Прибой. Где они? Хиппи спят, это не она, это он, это у него цветные штаны похожи на юбку. Та же схематичная фигура человека на странице. Где она? Прошел мимо. Вернулся. Вот она: та же худенькая спина, ребра и тяжелая грудь, удивительное и мучительное сочетание, так же сидит, прижав колени – стесняется. Как бы я хотел потрогать ее сзади, хотел, чтобы вот так же сидел кто-то напротив меня…
Ознакомительная версия.