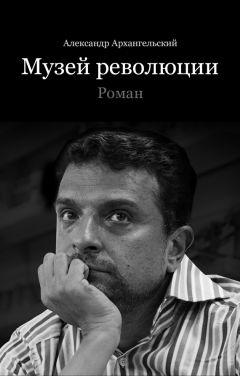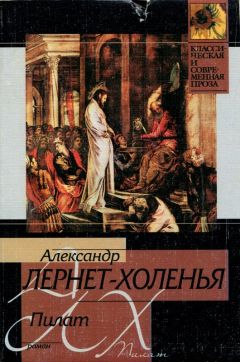3
Снова и снова он вспоминал ее влекущий голос. Свежие, некрашеные губы. Едва заметную полоску кожи между кофточкой и джинсами. Только сейчас, в самолете, он решился помечтать о мягком, медленном (а может, быстром, скользком?) поцелуе. О груди, которую легко накрыть ладонью. О загорелом плоском животе. И дальше. Притянуть ее к себе; она сожмется, вздрогнет, а потом как будто ослабеет и растает…
Весь этот месяц он прожил в состоянии почти болезненного возбуждения, но никакого эроса с танатосом! Первый раз он думает о ней вот так. Никто бы не поверил: невозможно, он же не монах! И все же это правда.
Павел не заметил, как уснул. Снилось что-то сумрачное, бледное. Вечереет, он бредет по окраине леса, навстречу движется расплывчатое существо, непохожее на человека, но не зверь. Приближается вплотную, радостно и властно начинает с ним сливаться, он чувствует, как в нем теперь живет чужая сила. Они говорят, но без слов; существо понимает, что Павел и хочет, и боится с ним сливаться; оно в недоумении: как можно быть любимым и любить, и при этом что-то оставлять отдельным, ничего не должно быть вне меня и без меня. Без перехода, как если бы киномеханик перепутал пленку, начинается другой невнятный эпизод; он лезет по расшатанной лестнице на чердак, а там колокольня, черный монах берет Павла за руку, тихо сжимает пальцы, и его же рукой его крестит. И тут же никаких монахов, колоколен и существ, он один на берегу большой реки, и такое счастье, и свобода…
Долетели.
Нет ответа.
Долетели.
Нет ответа.
Эй! Тата?
Наверное, она еще спит.
Все вокруг было плоским и белым. Низкая тундра, тонкое небо. Поперек сухой и сероватой белизны, как жженым грифелем, была прочерчена дорога. Вдоль дороги нависали косые бетонные блоки; на этот безразмерный покосившийся штакетник налипли снежные сугробы. Над вечной мерзлотой вздыбились коммуникации – трубы, упакованные в стекловату и опутанные проволокой, были пущены поверх земли. Тщательно укутанный газопровод и насквозь проржавевшие трубы тесно прижались друг к другу, им было очень холодно.
Микроавтобус проехал мимо разноцветного технического озера, незамерзающего и рябого, как пестренькие глазки алкоголика; на секунду их накрыло вязким паром, а когда пары́ развеялись, он двигался уже по широченному, разверстому проспекту, как если бы дома раздвинули домкратом, и ручку механизма выкрутили до предела. На угловые стены сталинских многоэтажек, с неприступными фасадами, наползали наросты угрюмого льда, выше человеческого роста. Даже в прогретом салоне ощущалось биение встречного ветра; на тротуарах не было живой души.
Вскоре стало ясно, отчего так. Из аптеки, над которой красовалась надпись: «Для вас, мужчины и женщины», вышла крепкая, приземистая девушка; ветер, казалось, ее сторожил; жадно подхватил, и сбил бы с ног, если бы она не ухватилась за дверную ручку. Было в этом что-то древнее, мифическое: бог зимы уносит жертву в ледяное царство.
Через несколько минут они подъехали к отелю. За это время серый воздух, из которого как будто выкачали солнце, успел сгуститься в сдержанные сумерки, но не до конца провалился в ночь. Полярный день застрял на полпути, остановился.
Вышколенный гостиничный служитель мягко принял чемодан, доставил засыпающего Павла в номер и отказался наотрез от чаевых.
– У нас не принято, господин. У нас отель отдельный, для своих.
Саларьев принял раскаленный душ; распаренный, довольный жизнью, он распотрошил кровать, затянутую туже портупеи, задернул тяжелые шторы – совсем как задергивал дома, для Таты, нырнул в блаженную прохладу простынь, и только в полусне сообразил, что некрасивая попутчица – исчезла. Он очнулся, отмотал события назад, осознал, что ни разу с ней не пересекся – ни возле грохотавшей ленты транспортера, ни в тесном здании аэропорта. Но мысли сами поменяли тему; он снова начал сладко думать о другом. О том, что будет очень скоро. Послезавтра. И провалился в безупречный, ровный сон.
Дом приемов был заполнен до отказа. Англичане поднялись на верхний ярус и флегматично сглядывали вниз, с кокетливо-ажурного балкончика. Столичные остались в общем зале, но держались обособленными группками. Местные фланировали из конца в конец, то свивались в плотные кружки, то внезапно разбегались по спирали. Все напоминало вскрытый механический будильник, в котором не закончился завод пружинки: сердечник лихорадочно сжимается и разжимается, отклоняясь то влево, то вправо от центра. К сигарной комнате вытянулась очередь суровых мачо: в смокингах, но будто рубленные топором; черно-белые, похожие на деловых пингвинов, они в развалку продвигались к двери, из-за которой выбивался сизый дым. А под сочной люстрой в самом центре зала обмахивались веерами здешние красавицы с покатыми плечами и необъятно низким декольте. Холод вынуждал их вечно прятать розовое, нежное, манящее под непроницаемые теплые одежды; выпустив свои тела наружу, они как будто мстили Заполярью.
В общий гул ввинтился резкий звук звонка; по толпе пронесся легкий ветерок, веера захлопнулись и очередь к сигарам рассосалась. Все устремились вниз. Толпа расступилась; по образовавшейся дорожке, ровной, как пробор чиновника, шла непроницаемо монументальная охрана, а внутри ее вороньего кольца двигались три очень разных человека – Ройтман, с маленькой рассеянной улыбкой, худощавый востроносый губернатор и рыхлый телом англичанин. Павел мысленно накинул на британца длинное пальто с нашитым хлястиком, округлую шляпу с двойным жокейским козырьком, и не смог не похвалить себя: до чего похоже получилось. Хотя лепил его по фотографиям, ни единой очной встречи не было.
Куколка из мякоти и соли ожила; поднялась на подиум с другими куклами, сказала речь, растрогалась, достала носовой платок и промокнула толстую слезу.
Отговорив положенные речи, куколки спустились на ступеньку и одинаково сложили руки, как футболисты перед штрафным, прикрывая причиндалы от удара. Пригасла хрустальная люстра; вздернулась белая завесь, и на огромных плазменных экранах развернулась местная история.
Толпа внимательно, и, кажется, с восторгом наблюдала.
Сталин произвел задуманный эффект; с футболистами они, конечно, прогадали: люди начали вставать на цыпочки, чтобы разглядеть фигурки, толкались, шикали. Клоны Ройтмана и англичанина (тут Абов то ли промахнулся, то ли специально их подставил: ничего им не сказал про губернатора), соткавшиеся из ничего и замершие перед своими прототипами, вызвали оцепенение, и вслед за ним – овацию.
Картинка выключилась (подражая Шачневу, Саларьев сказал про себя: «обнулилась»). Середина зала снова дрогнула, и трое главных двинулись в обратный путь. К ним потянулись люди – с напряженным ожиданием, надеждой; те старались не смотреть в толпу, но если вдруг кого-то из знакомых замечали, то делали призывный жест, и счастливчик начинал буравиться навстречу; охрана на секунду размыкалась, и он оказывался внутри защитного кольца.
Не допущенные с завистью смотрели на идущих.
Ройтман, проходивший мимо Павла, мазнул его случайным взглядом, что-то вдруг припомнил, и сделал вялое, неопределенное движение пальцами. Похожее на школьную разминку: мы писали, мы писали, наши пальчики устали… Саларьев ответил таким же движением, дескать, да, конечно, здравствуйте, Михал Михалыч.
– Что ж вы стоите? Они – уйдут – туда! – завистливо и уважительно сказал мужчина с леденистым взглядом.
– Куда – туда?
– Туда – туда. Вы что, не понимаете? Там третий зал!
Услыхав про «третий зал», окружающие стали быстро, остро двигаться, как шестеренки, и больно выпихнули Павла на дорожку.
В этот загадочный зал Павел вошел одним из последних; дверь плотно затворилась; сразу стало тихо. Так бывает тихо в кабинете, ранним утром или поздней ночью: спокойно светит настольная лампа, книжные полки в тени, на улице ни зги, все спят. По глухим коврам бесшумно разбредались приглашенные. За барной стойкой не было официанта; каждый наливал себе, и молча отходил в сторонку. По центру были накрыты столы, мест на сорок, максимум на пятьдесят. За столы пока что не садились; брали мелкие закуски, отходили.
Часть обширной комнаты была освещена высокими торшерами; матовые белые потоки света поднимались к потолку. Другая половина растворялась в полумраке, напольные лампы мерцали желто-синим, как гаснущее пламя на конфорке. Молодцеватый губернатор, так непохожий на их долгородского жирного пентюха, неохотно пил коньяк и въедливо смотрел на двух своих помощников. Они молчали, и он тоже не говорил ни слова. Англичанин уселся к публике спиной, положил ноги на подставочку и, кажется, пытался задремать. Ройтман в дальнем уголке беседовал, вяло шелестя губами, со своим партнером, Мельманом; у Мельмана были светлые игривые кудряшки, голубые нервные глаза, сам он весь какой-то потревоженный и подростковый, отвечая, нервно сглатывал.