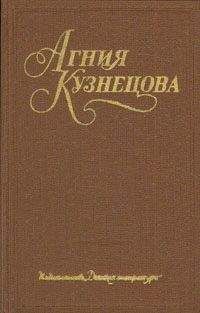Ознакомительная версия.
Я решила понаблюдать, подаст ли кто-нибудь сразу обоим музыкантам на променаде, и одновременно прислушивалась к звонкому голоску рыжей девочки, поэтому не заметила, как подошла та женщина.
Опустившаяся, лет сорока пяти, с грязной всклокоченной головой, в старом тренировочном костюме, отвисшем на грузной заднице, и в растоптанных мужских сандалиях. Она что-то жевала. Приглядевшись, я опознала в руке у нее шарик фалафеля.
Она остановилась против мужчин, запихнула в рот остаток фалафеля и отряхнула ладони. И заговорщицки улыбаясь, стала медленно приближаться к ним, нетвердо ступая по брусчатке в своих лаптях с оттоптанными задниками. Мужчины умолкли, настороженно следя за перемещениями бродяжки. Приблизившись к одному из них – тому, кто явился позже и кого приятели звали Дуду, – она с трогательным выражением на лице, со щекой, оттопыренной непрожеванным куском, проговорила:
– Я люблю тебя!
Тот поднял обе руки, как бы сдаваясь, и серьезно ответил:
– Увы, я женат.
Она продолжала молча стоять, любуясь этим лысым боровом.
– Так что всего тебе хорошего, – добавил он твердо.
– Люблю… – несколько даже удивленно и доверчиво повторила она.
– Спасибо, спасибо… Иди себе с богом…
Солнце еще полоскало белье, вывешенное на балконе третьего этажа. Во многие окна этих домов, построенных во времена Британского мандата, были вставлены квадратики цветного стекла – синего и красного, так что на закате солнце мягко касалось лучом того или другого (так кошка трогает лапой уснувшего котенка), добавляя еще чуток цвета и игры витающей над этим местом улыбчивой жизни.
Рыжая девочка слева продолжала распевать песенку. Она делала это обстоятельно, по одной строчке после каждой ложки:
– «Сказал Господь: “Ты в страшных муках, Ева, родишь своих детей!” А Змею он сказал…» – умолкнув на миг, сглотнула и как ни в чем не бывало продолжила: – «А Змею сказал: “Хлеб свой добудешь в поте лица своего!”»
– Это он не Змею, – вмешался старший брат, – это он Адаму назначил.
– А при чем тут Адам?! – возмутилась малышка. – Адам тут вообще ни при чем!
Улыбаясь, мать молча смотрела на детей, ни словом не вмешиваясь в их диалог. Я подумала – как мудра она, эта ленивая рыжая кошка Иерусалима…
– Иди, – мягко сказал бродяжке лысый бугай. – Иди с богом, моя дорогая. Я тоже тебя очень люблю. И его люблю. И вот его – тоже… Все люди должны друг друга любить. Иди, дорогая, с богом.
Он достал из кармана горстку мелочи и протянул женщине. Та стояла, не шевелясь, с тем же блаженным восторгом в лице. Здесь много солнца, думала я, с упоением догрызая вафельный конус и понимая, что на встречу, куда спешила, конечно же, опоздаю, – навалом солнца и до фига серотонина… И все кругом слишком часто произносят всуе Его имя…
– И вообще! – воскликнула девчушка, решительно воткнув ложку в недоеденный курган мороженого. – Мне этот господь надоел! Чего он выпендривается! Он что – самый главный?
– Именно, – парировал брат.
– Поглядим еще, – заявила достойная наследница Евы. – Может, я тоже могу стать богом.
– Нет, ты не можешь, – хладнокровно заметил брат.
– Почему?
– Потому, что Бог – мужчина, а ты – женщина.
Пожилая бродяжка еще с минуту постояла возле столика, переминаясь в своих оттоптанных лаптях, потом повернулась и медленно двинулась вверх по Бен-Иегуде.
– Что ты ей здесь втюхивал про любовь, а, Дуду? Ты кто – Ешуа? – насмешливо спросил одноглазый.
– Бедная, – проговорил, отворачиваясь, лысый Дуду. – У нее разбитое сердце, а?
– Да нет, – охотно отозвался его одноглазый приятель. – Просто мозги не в порядке. У нас таких много и всегда много было. Понимаешь, когда народ такой старый, как мы, у него много сумасшедших.
– Ты не можешь знать, кто сумасшедший, а кто – пророк. «Нет ничего цельнее разбитого сердца, – сказал рабби Симха-Буним, – нет пути прямее кривой лестницы и нет ничего кривее прямого высказывания…» Элиягу тоже считали сумасшедшим.
– Тогда иди, догони ее и скажи ей, что она – пророк. Она же о любви говорит.
– Ешуа тоже говорил о любви, – заметил третий, с трубочкой, свернутой из документа, – и тоже был сумасшедшим, а потом его сделали богом, а нас – козлами отпущения.
– Тогда иди, догони ее, скажи ей, что она – бог.
– И вообще! – воскликнула девочка. – Где он вообще, этот твой бог? Где он живет?
– Он живет высоко, – спокойно отозвался брат.
– Где, где – высоко? В «Хилтоне», что ли? На двенадцатом этаже?
– Да нет, вот глупая. Бог на небе – поняла?
Несколько мгновений девочка молчала, в замешательстве глядя на брата.
– Ну, такого просто не может быть! – решительно заявила она. Любопытно, подумала я, что не только мать не вмешивается в разговор детей, но и они не терзают ее никакими вопросами, не втягивают в спор, не призывают в судьи. Ей-богу, это необыкновенные дети и необыкновенная мама.
Мальчик вздохнул, протянул сестре салфетку (она измазала подбородок мороженым) и примирительно проговорил:
– Ладно, приедем домой, посмотрим в Интернете…
Господи, подумала я, в кои веки я просто захотела съесть мороженого. Могу я, черт возьми, в этом городе просто съесть мороженое, без всего этого высокого сопровождения: без рассуждений справа и слева о добре и зле, о Боге и ангелах, о поющем раввине, о рабби Симхе-Буниме и роли Иисуса в еврейской истории…
Тут мальчик повернулся к матери и молча быстро что-то сказал ей руками. И она ему что-то ответила еле заметными движениями полных и плавных рук. Она стряхнула с себя последние крошки блаженного оцепенения, достала кошелек и вложила купюру в плоскую книжечку счета… И втроем они пошли вверх по Бен-Иегуде, куда и я должна была идти, но не могла. Просто не могла подняться.
Поистине, думала я, в этом городе в спор о Боге не вмешиваются только глухонемые…
«Сказал рабби Йоханан:
“Не войду Я (Всевышний) в небесный Иерусалим, пока мой народ не вернется в Иерусалим земной”».
«Антология Шимона-Проповедника»
И все же на встречу я успела. Может, все дело в том, что заседания в иерусалимских судах обычно затягиваются; обвинителю и защитнику всегда есть о чем поспорить, а судье – о чем подумать, прежде чем вынести вердикт. Так что моя приятельница Рина (она адвокат) как раз выходила из здания суда, где мы с ней и договаривались встретиться.
– Ну, как там обвиняемый – оправдан? – спросила я Рину, понятия не имея, о каком деле речь. Просто мы давно собирались встретиться, пообедать и поболтать, и вот, пожалуйста, – она выходит после судебного ристалища, мечтая о еде, как лесоруб после валки зимнего леса, а я зачем-то съела мороженое. Какого дьявола я всегда порчу себе настоящее удовольствие мелкими потаканиями минутным капризам?
– Все обошлось, – весело отвечает Рина и машет рукой. – Ой, пойдемте уже, рухнем где-нибудь, я ужасно голодна. Сядем, и я вам расскажу забавную историю.
Через десять минут мы сидит в кафе «Вчера, позавчера», что приткнулось в закутке длинной сквозной щели, именуемой «Иерусалимским двором». Ни один турист не разыщет это сугубо иерусалимское заведение в недрах неказистого каменного дома, не лишенного, впрочем, своеобразного ар очно-оконного очарования.
Это две небольшие комнаты, которые язык не повернется назвать «залом».
Все здесь старое; не антикварное, а именно старое – такую мебель принято называть «бабушкиной»: глубокие продавленные кресла, венские стулья, круглые обшарпанные столы без скатертей. В стенных нишах стоят хлипкие бамбуковые этажерки, хрипло стонущие под грузом книг.
Место культовое, университетское (тут часто выступают израильские писатели), и вечерами в двух этих комнатах бывает тесно и шумно. Но сейчас никого, кроме нас, нет. Мы выбираем лучший стол у глубокого и узкого арочного окна, формой напоминающего книжную закладку, – такие окна встречаются лишь в старых иерусалимских домах.
(В этом месте моей новеллы читателю может показаться странным, что на протяжении сорока страниц я шатаюсь по Иерусалиму, при каждой возможности заруливая в кафе, таверны и рестораны. У читателя может сложиться впечатление, что сведения о местной жизни я добываю, сидя с разными людьми за разными столиками, с видом на разные окна. Читателю это может, в конце концов, и надоесть. В свое оправдание могу лишь заметить, что и до меня многие писатели, желая вывалить те или иные сведения, добытые ценой долгого и вдохновенного безделья, усаживали своих героев за столики подобных злачных заведений – ибо ничто так не оживляет литературного диалога на странице той или иной книги, как вовремя принесенное официантом филе лосося под белым соусом.)
Как раз филе лосося мы и заказываем, потому что здесь его готовят отменно, добавляя какие-то незнакомые мне специи.
Ознакомительная версия.