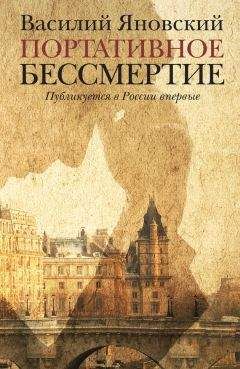Василий Яновский - Портативное бессмертие
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Василий Яновский - Портативное бессмертие. Жанр: Русская современная проза издательство неизвестно, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
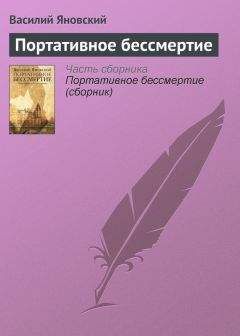
Василий Яновский - Портативное бессмертие краткое содержание
Портативное бессмертие читать онлайн бесплатно
О, как серьезна эта любовь, большую мзду она взымает. Мускулистые, каторжные груди, тельники, фуфайки, бандажи, кисть женской руки, поплывшая вдруг, что лебединая шея, родимые пятна (их матери целовали) на самых неподходящих местах, острова грязи, веснушки на ягодицах, потные соски, запахи и татуировка. Татуировка! Изучают разный фольклор. Но до этого, кажется, еще не докатились. А между тем вот подлинное, безымянное творчество, поле для изучения народной души. Девица с выщипанными бровями просит, чтобы ее избавили от инициалов, вытравленных под левой грудью. “ On est bête а 20 ans” [137] – решает ординатор с редкою, седою, шелковистой бородкой, на ровно-багровом веселом лице – похож на Вакха – и шутливо-зверски щелкает пальцем по соску. «О, я был очень болен, – сообщает он подошедшему коллеге. – Печень. Но теперь уже лучше. О, лучше!» – значительно повторяет, на минуту вообразив, что постороннего это может также интересовать. Этот Вакх нам однажды рассказывал, как в детстве ему, хворому, давали закусывать рыбий жир шоколадом. С тех пор он не может видеть даже запечатанной плитки! “ Mais on a réussi! ” [138] – заметил кто-то из слушателей (имея в виду его бравую осанку и румяное лицо) с той особою улыбкой, что появляется даже при самом независимом общении с начальством. “ On a réussi” [139] , – согласился сияюще. А через две недели он был уже мертв: беднягу всего изрезали – непонятное с печенью! Соски этой девицы (“ On est bête б 20 ans ”), рыбий жир с шоколадом (“ On a bien rèussi ”), легкая его смерть («О, теперь уже лучше» – серьезно и необычайно внимательно) – все это вместе почему-то крепко залегло в моей памяти, своеобразно проявляя себя. Так, например, – в какой-то связи – я не принял клиники Бира. Буквы, сердца, якорь – самая безобидная татуировка. Змеи обвили ноги бездомной, хвост у щиколотки, а жала протянулись вверх (симметрично) к сокровенному месту. А у легионера пара глаз выжжена артистически на заднице: уморительно косят в сторону центра. Сутенерская надпись, снизу живота, дугою: “ Robinet d’amour ” (“ j’aime et j’hais ” [140] – так же часто повторяется). Щиты, загадочные чертежи. Фигуры синей тушью: женский бюст с пухлой грудью… или: во весь рост, на цыпочках, танцовщица с круглыми, яйцевидными икрами. Это в одну краску: близкая, дешевая, полицейская татуировка – тюрьмы Франции, север Африки (Алжир, Тунис, Марокко). Солдат из Индокитая узнаешь по художественно исполненным рисункам. В Шанхае работают тремя цветами, главным образом зверей: драконы, змеи, тигры, леопарды, – душат друг друга, грызут, охраняют. Это похоже на что-то музейное: яркие, четкие миниатюры.
Издалека маячит, белеет Maternité [141] . Там в «зале работы» смердело, как в согретой мертвецкой. Библейски томились, ерзали женщины с псино-умоляющими, соблазненно-жертвенными глазами. Я лежал ночью на свободной койке, дожидаясь. Это под утро – к трем с половиной – чаще всего рождаются, как странно смыкая круг: в это же время большинство умирает (а зачатие?)… Рядом – первороженица, молодая, обнаженная, могуче била ногами по настилу (вспоминались играющие кобылицы). У стола с весами верещал сверток; растрепанная акушерка перебирала руками «место»: рыжие, крашеные ногти клопино светили сквозь упругую оболочку. Святое материнство начиналось лишь потом. Спустя две недели выписывались, проходили опьяненные, с розовым свертком (как семья Бюта, на улице Будущего). В этой первой ночи жизни было многое неправдоподобно (а пахло потрохами). В нашей комнате дежурных висела гравюра, изображавшая резвящуюся пару (надпись гласила: “ Que’est ce que c’est l’amour? ” [142] )… A дальше, на внутреннем отделении, мучительно долго умирал мой первый больной: тучный патриарх, еврей. Большие, выпученные, темные глаза с поволокою. Он ими тяжело обводил палату, и когда останавливался на мне, то делались понятны: сны пустыни, и Синай, и овен (рогами – в чащу), и тайна Радуги. «Почему все согласны умирать, кроме евреев», – спрашивал interne [143] (в его голосе ничего, кроме раздражения, нельзя было уловить). А вот – хирургия. Новые, выбеленные корпуса. Я помню их… Проносили, провозили; улыбались, бредили; вдовы, солдаты, дети; потерянные перемещались по коридору (казалось: центр вселенной передвигается вслед за ними). Ослепительно жмурилась девочка – spina bifida [144] – смеялась лукаво, пока ее укладывали на возок, подтыкали одеяло: очаровательная, крохотная латинка. Не хотела вдыхать наркоз – о, первый глоток из маски! – я похлопал ее ладонью по щеке, в ответ она скосила глубокие, большие, ласковые глаза, шаловливо-грациозно повела ими, как газель, и доверчиво, послушно задышала. Она умерла на рассвете. Слышу противную воркотню автоматического дыхания, стон пробуждения, первый взгляд (полукругом в сторону), запах: эфира, крови и каучука. А за всем этим ослепительная, детская отпускающая улыбка ( spina bifida ), что как медное солнце висит над моей головою. Старику ампутировали penis : рак. Рядом я думал: «Как он воскреснет? Если без – значит, восстановление неполное. А если с – то зачем, к чему это ему в том царстве?» Искусно, уверенно хирург манипулировал инструментами, ловко и важно совершал обряд: не просто брал нужные ему щипцы, иглы, не кратчайшей дорогой шел к цели, а, видимо, сложнейшей, путаной – через целый ряд колен, звеньев и этапов, подчиняясь законам стерильности и телесной иерархии. «Что сказал бы варвар, не слышавший о микроорганизмах и сращениях, наблюдая эти хитрые приемы». Вероятно: «Жулик, фокусник, шарлатан, пускает пыль в глаза! Никель, каучук, газ, ведь сразу проще, а он чешет правой рукою левое ухо, набивает себе цену, авгур [145] ». Меня давно поразило сходство действа хирурга в операционной и жрецов, священников у алтаря. Возможно, что в церковной империи с нелепою (но тщательно подобранною) одеждою, числами, огнями и запахами все так же имело конкретный смысл, основанный на точном знании. Но, утеряв необходимый опыт, мы теперь судим, как неучи, допастеровские нигилисты, – о хирургической операции. Сходство идет до странных мелочей: во время причастия Тело и Кровь не должны упасть, брызнуть, капнуть – осквернение, загрязнение (инфекция). Литургия построена тысячелетия тому назад на принципах послепастеровской биологии. Только забыто обоснование. Так может случиться: когда-нибудь затеряются предпосылки и современной науки или умрут микробы. Тогда оскопленные хирурги станут торжественно и слепо повторять свой обряд во всех мелочах: кипятить воду, варить скальпели, надевать для каждого этапа другую белую рясу, уже не зная, кому или зачем это нужно! Над операционным столом висел круглый, тяжелый прожектор, выложенный гранеными прямоугольниками, толстыми, зеркальными. Там в уменьшенном, собранном виде отражались соседние, дальние и близкие, многоэтажные массивы зданий: перевернутые, плыли вниз головою купола, колокольни, крыши, башни, веранды, кронштейны, трубы. Отраженный город повис вверху; неописуемой чистоты был свет и цвет его, недоступно-проясненный, небесно-церковный, беззвучный, подводно-уснувший, призрачный и четкий, нетленный, зачарованный, подобный – пустынными балконами и сияющими стенами! – Тысячелетнему. Неземная жара плавит воздух, башни и камни. А тот город стоит, притихший, затерянный. В побелевших песках – дворцы и стогны. Я бродил уже по его неведомым улицам, среди невиданных существ, опознавая старых, забытых, желанных двойников. Нет больше ощущения: меня, моего тела. Не потею, не знаю усталости – жара в подошвах – трения носков, башмаков, асфальта. Встречаю родных, друзей. Многие давно преставились, а те на далеких материках. Не беседуем, только шагаем – бок о бок. Но откуда эта радость и вера: надолго мы вместе, больше нет разлуки, не запрутся таверны, где мы сиживали, последние поезда подземной железной дороги уже никогда не отвалят от застав. Я брожу по тысячелетнему, заповедному граду. Тишина, все стало, не течет, не меняется. Сухая жара омывает: меня, эти стены и белые пески; раскаленное солнце где-то висит, но нет ни пыли, ни жажды, ни теней; воздух так ясен, что все окраины – достать рукою, а времени больше нет. И сердце истово тянулось в светлый, отраженный край: от стола, туда вверх, близко, – по карнизам! «Но еще не время», – стоически крошилась душа. «Так это из люстры мой Град, оттуда! – догадался я вдруг. – Странно, не ожидал. Но в общем, что мне делать, куда сейчас податься?» – рассеянно и пытливо осведомлялся я, стоя посреди монастырски-тюремно отгороженного госпитального двора, жуткого в сумерки. И чувство было такое, как у одного из сиамских близнецов (когда второй уже мертвый).
Часть пятая Омега
Не суждено описать Братства.
Упанишады {46}
1
В этот памятный день я возвращался, слегка одурманенный от непривычного бдения, совсем рано домой. Смеркалось. По Avenue Gambetta , мне навстречу, громыхал катафалк. Кучер в перчатках едва сдерживал на широких вожжах неистовых белых красавцев-коней с выгнутыми, лебедиными шеями. Рядом, на козлах, сидел джентльмен в черном цилиндре (а сзади овальный гроб, без родственников и провожающих). «Странно, вечером, на лошадях», – мелькало у обеспокоенных прохожих; они заглядывали друг другу в лица, проверяя впечатление. Внезапно, должно быть почувствовав мгновенную слабость держащей руки, могучие кони яростным зигзагом дернулись на спуске. Экипаж подпрыгнул, гроб взлетел и скатился на мостовую; ударился об камень, словно орех раскололся надвое: отскочила крышка, и из гроба ловко воспрянуло существо в белом саване. Не мешкая, оно вихляющей, какой-то противно-босо-кошаче-цепкой иноходью, согнувшись, понеслось к решетке, вскарабкалось и (бело оскалясь, огрызаясь на свидетелей) перемахнуло через ограду, скрылось в сквере, прилегающем к чинному кладбищу Pére-Lachaise . Экипаж остановился несколько ниже (лошади гневно фыркали, картинно скребли мостовую), оттуда свалился джентльмен в цилиндре. Озадаченно поглядев в сторону исчезнувшего призрака, он обменялся замечанием с кучером, опасливо подбежал к гробу, собрал его половинки, рысью поволок за собою к экипажу, погрузил и сам вскочил уже на ходу: лошади с распущенными хвостами тронули с места мудреным галопом, похожим на кадриль, и мгновенно пропали в тумане. Мы смотрели им вслед, за решетку сквера, друг на друга, смятые, растерянные, готовые сразу уступить, застенать, побежать из жизни или пожать плечами, расхохотаться, – ожидая знака извне, слова. Беззащитные, жались в группы, перебегали, судили шепотом. Некоторые, словно подхлестнутые, бросались вниз – догонять. Умножились несчастные, что видели только хвост, кончик происшествия или совсем опоздавшие: расспрашивали, судили. Одни твердили: «Настоящий, мертвец, женщина…» другие уверяли: «Большая кошка или пантера в чехле…» третьим казалось, что это световой луч, зайчик, скользнувший по гробу и мостовой – к стене. «Да полно, что вы, – все чаще раздавались трезвые голоса: – Пьяные отвозили пустой гроб к заказчику или в этом роде». А улицу заливали другие волны: то же да не то (подобно картам, при следующей сдаче). Мостовую вновь покрыли клокочущие машины, в иных комбинациях и зигзагах; зверски вопили газетчики: последнее издание. Появилась цепь – люди-сандвичи, гуськом, зазывая в цирк: там выступает известный сорвиголова, развлекающийся со смертью ( Qui s’amuse avec la mort [146] ). На разбрасываемых летучках и афишах красовался юноша, одетый как жених, с большим белым цветком в петлице фрака. Он дружески шагал об руку со смертью, разрисованной, как зебра: та показывала ему на кипящий котел, на виселицу и электрический стул, а он все любезно соглашался. «Да не реклама ли это Цирка трюк?» – предположили в разных концах. Наиболее солидные, матерые господа и дамы вдруг сконфузились, неодобрительно покачав головою, отстали. Только смрадная нищенка, горбатая и хромая (для сохранения равновесия она приняла такую позу, что все мнилось: вот-вот упадет), продолжала визгливо гневно-поюще стонать. Скользя и припадая – быть может, на четвереньках, – она оступилась в мрак. Неожиданно и я повернул назад, туда же, вниз. Гнилостные туманы пали в этот вечер на город (это случается раза два-три за год). Казалось, они поднялись, выползли из трущоб, снизу, где щели и скважины – фиолетово-желтые, причудливые гады, – протягивая ко всем лапы, когти, морды, клешни, присасываясь банками, подобно осьминогам, обволакивая, обвивая, целуя, душа. Огни напрасно горели: они только прилегали к темноте, не смешиваясь, не побеждая. Вот ядрышко фонаря, а тьма вокруг него – сама по себе. Только на самой плоскости сферы обозначилась серая, теплая кора – ореол, – словно из тел неведомых пограничников, павших смертью храбрых. Я слышал, урывками, не то пение, не то ругань нищенки, на четвереньках оступающейся где-то близко во мрак, но догнать ее не мог (не хотел). В том состоянии потерянности близость горбатой, пьяной, еще более обиженной, чем я, меня успокаивала, ободряла; я чувствовал в ней нужду. Казалось уместным подойти, благодарно заговорить; но это ведь бесполезно, да и слова соответствующие не находились. На площади République , у ярко озаренной витрины спортивных принадлежностей, сгрудились ротозеи; там, в глубине магазина, покоился челнок, у весел сидел обнаженный негр и равномерно, могучими взмахами греб. Манекен?.. Но такой художественный: вряд ли (да и дорого). Черномазый изредка поворачивал свое лицо к тротуару, к женщинам, к школьникам, к людям за стеклом (в клетке обезьяна). Она скалит зубы, кривится (смеется или шепчет проклятия); сгибаются эбеновые ноги (дрожат квадрицепсы), пухнут бицепсы рук: гребет по воздуху, но всерьез. Я проталкиваюсь вперед, незаметно мигаю, делаю дружественные знаки. А он все угрюмо выпростовывает весла, злобно обжигая любопытных своим оскалом. Брат мой. Брат мой готтентот, брат мой орангутанг, брат мой в труде, в злобе и в спасении, ты не понял меня, когда, один из толпы, я кивал тебе курчавой головою. В первом часу ночи я вышел из Palais-Berlitz , где упрямо опускал монеты в чрева разных и впрямь бессмысленных автоматов. Большие бульвары уже спали. Они были просторны и чисты. Haussmann чинно лег меж универсальными магазинами. Осторожно, обман: узенькие, слепые улочки притаились близко, сбоку. Они, что змеи, когда прокладывают шоссе, уползли прочь, в укромные места, задремали в трещинах и норах, дожидаясь своего времени, чтобы ужалить. Смертные тени сгустились в подглазницах влюбленных; верные друзья, одинокие сироты, подзывают гарсонов и расплачиваются: от ворот Парижа вагоновожатые повели уже последние составы. Медленно спускаюсь по лестнице в метро: с закрытыми глазами, не держась за поручни. Не знаю отчего, но все чаще и чаще я стараюсь обходиться без помощи органов чувств, ищу иных возможностей ориентации. Мертвые в потустороннем мире первое время должны ужасно маяться, парализованные, лишившись старых «дырок» (а новые еще не прорезались). Вероятно, отсюда мое безотчетное желание натренироваться, привыкнуть к слепоте. В этот час редкого движения вагоны мчатся с предельной рьяностью: стук, мотание, свист ветра временами чудесно передают душу бега настоящего поезда… а мысли дорожные, дальних следований, начинают подступать. Сколько прелести: свистки, вокзалы, зазывание, скорость, не мешающая, однако, впитывать бесконечность равнины. Жаль, следующие поколения не будут знать этого, в сущности, уже обреченного способа передвижения. Как, впрочем, нас могли бы высмеять предки, путешествовавшие на перекладных, слушавшие осмысленное ржание коней, щелкание бича, «эээх» ямщика (а на остановках уют камина, запах жаркого и благодатные встречи). По сравнению с электромашиною паровоз – живое существо: кипит, взвизгивает, капает, пачкает, греет (несовершенство, потеря энергии). Человечность умирает в самой машине. Газовая плита варит и одновременно еще светит (зря), керосиновая лампа наивно старается греть, хотя этого от нее совсем не требуют, – электричество, современное, более «непроницаемо», но и оно покажется трепетно, легкомысленно живым – в грядущем: вокруг еще распыляется тепло, нужно все же взять рукою, нажать кнопку (фоточувствительная клетка уже освобождает от этого). Как-то ночью, у Halles , сомнамбулически шагая, я был разбужен человечески-внятным, близким, доброжелательным, дружественным голосом: то рядом, в оглоблях, заржала лошадь, повернув ко мне добрую, мирную голову; и в этой ее фразе (ночью, меж шлюхами, мясниками и нищими) пролился весь остаток земной теплоты, душевного величия (где память о рае, приятие судьбы и прощение богам). На остановке вдруг подходит бывший товарищ, студент, я его лет десять уже не встречал; у него теперь гнусная, испитая рожа и взгляд благородного патриота, живущего на чужой счет. Не удивляясь встрече, здороваюсь. Он садится рядом и начинает кричать – звенит, стучит, мотает! – под самое ухо, а то и в нос. Людей можно, кажется, поделить на два типа: у одних пахнет, у вторых не пахнет изо рта (не поможешь мытьем, полосканием – желудочный клапан приоткрыт). Он хвалит немцев потому, что ненавидит французов. Ему отвратителен целый ряд народов (по странной случайности, именно те, с кем приходилось общаться: свои русские, поляки, евреи, чехи). Его лицо (злобная маска) совсем близко – не отвернешься. Мелькает дикая мысль: ударить. Наконец мне пересаживаться ( République ). По коридору, с закрытыми глазами, делаю двадцать шагов. Потом замираю, хотя тишь да гладь, никакой логической опасности: не страх, не ужас, вообще ничего определенного! Я замедляю шаги, начинаю топтаться на одном месте, зная: не могу больше (окружен стеною). Протягиваю руки, ощупываю: путь свободен… еще несколько шлепков ногами – нет, сдаюсь (а в сущности, именно с этого мгновения – трудится душа). В туннеле слышен гулкий бег, позади тяжелое дыхание: это пассажиры спешат к последнему поезду. Увлеченный, я бросаюсь вперед, сконфуженно выбегаю на пустую площадку, где уныло дожидается несколько сумрачных фигур. Сажусь на скамью, сутулюсь. На темном рельсе – с равными промежутками – стоят лужицы отраженного света. Прогуливаясь, бредет мимо, должно быть, женщина, в чем-то мешковато-коричневом (пальто либо шаль). Опять возвращается. Я отворачиваюсь, какое мне дело. Вот раздается оглушительный – торопитесь! – полицейский свисток: то контролер дает знать бредущим в коридоре: приближается последний состав. Я поднимаюсь, иду к хвосту, чтобы попасть в крайний вагон (так ближе к дверям – на моей станции). Со стороны я, вероятно, произвожу впечатление вполне осмысленного, дрессированного существа. С опозданием отмечаю странность: голова поезда остановилась посередине… шипение, скрежет… и вот по той стороне, пухлый, коротконогий, в светлой фуражке, неумело бежит к стеклянной будке, дергает рычаг у распределительной доски, – искра! Театрально, без пауз, кричит в телефон. Беспомощно дребезжит звонок. А кругом: напряженное затишье, кляксы возгласов, незаметное движение, без контуров, дуновение, – что составляет душу катастрофы (ошибиться нельзя, хоть раз вкусив). Понимаю: бросилась под колеса женщина. Растерянные, весело-возбужденные, пьяные бедою голоса. Доносится: «Вот тут, вот так, без шляпы, в платке, она целый вечер здесь, под самый вагон, тормозил». Целый вечер здесь… Догадка, еще удар, зигзаг памяти – и более или менее ясно. Это она мимо меня шлепала в коричнево-песочном платке. Решила себя наконец убрать. Вышла из дому. Весь день слонялась под землею. Говорила: «Второй, нет, следующий поезд». Вдруг осенило: к чему спешить, можно под последний, в час ночи, о нем известят «казенным» свистком. «Все проверено и учтено, да спасения нет, так надо (а может, чудо). Гуляет по туннелям, садится в разные вагоны, то отстраняется, то, наоборот, липнет к людям, меняет направления, сходит на, должно быть, знакомых, но по-иному звучащих станциях. Устанешь. Вечер. République (вероятно, сюда она часто попадала). То посидит на скамье, без мыслей, без впечатлений, то заспешит, суетится. Всё видит, слышит, обоняет половинчато-вдвойне: пароксизмы внимания. Вопьется в случайного соседа, забудет свой взгляд на нем… целуются молодые, она знает это… или ребенок: тянется крохотною ручонкою, уцепился за подол матери, ха-ха-ха. Вскочит, пройдется, бесцельно станет у зеркала, объявления, расписания последних и первых составов (трудно женщине в таком разобраться). Опять сядет, смиренно ждет: пассажир последнего поезда (всякому свое). Иногда с черствым любопытством взглянет на ближнего (о, чудо). «Глупо, ведь, если рассудить: никто уже не в состоянии помочь». Когда я спустился на перрон, теперь знаю, она поглядела пристально. Проковыляла близко. Дважды, трижды, сюда и назад. Но у меня свое: учусь ориентироваться в потустороннем мире (тоже в известном смысле дожидаюсь свистка). Слепые, глухие мокрицы. Рядом ракета, бомба, адская машина (чем начиненная?), человек (что задумал?), кружит, пересекает путь комета, звезда. А я только лишь заметил ее, – когда уже потухла. Смотрит, ищет (чудо), приближается: туда и назад, рядом. Долго ждала этого свистка, но как он зазвучал: протяжный, властно-тюремный, казарменный! Здесь я теряю нить, только сердце дергается (о, если бы уже на самом деле). Резкий, железнодорожно-полицейский свисток (о нем вспоминать потом, как Раскольников о звоночке на квартире старухи-процентщицы). Какой-то геологически свирепый, железобетонный. Трезвой, ей страшно. Слушает, расширив душу, пьет, захлебываясь, кислотный звук. Между первым клекотом свистка и шипением тормозов – секунд пятнадцать-двадцать. Вот в эту разницу (дальше опять все понятно) я снова и снова заглядываю, как в темную прорву, ничего очами не видно, а корчусь на дне, словно узрев все. Опять, опять: подвожу цепь к одному краю, ставлю ногу на другой, опускаю голову, ныряю на миг в «разницу», барахтаюсь там, задыхаясь и постигая. Чтобы достать тело, нужны разные чины и специалисты, даже если легко: только руку протянуть, – так установлено. Мы взлетали на цыпочки, гнулись, скользили: хоть бы что-нибудь увидеть, реальное – клочок плоти, ткани. Некоторые клялись: вот край платья, пятно. По чувству, лишь через полчаса явились пожарные. Вместе с ними хлынули откормленные, матерые, ночные полицейские – особая порода. Тело забросило под самую середку: два вагона прошло… низкие оси, буфера, рессоры, брусья, сеть проводов, шпалы – не проползешь. Прежде всего, естественно, занялись нами, свидетелями. Я отрекомендовался врачом. «О, я не думаю, чтобы вы пригодились. Впрочем, я осведомлюсь». “ Ayez pitié de moi! ” [147] – раздался вдруг такой близкий, беспомощный, исподний, загробный, потусторонне-сонный, слабый, женский, материнский, предсуще-знакомый голос. Все замерли от неожиданности, потом всполошились, нелепо побежали, спотыкаясь, мечась, подступая. Это бывает иногда с безнадежно раненными: очнется и с минуту словно вполне здесь (в противоположность средним увечьям). “ Ayez pitiè de moi! ” – снова, так же освящая эти грязные, кафельные своды, донеслось, кажется, из-за спиц, колес, рельс (неведомо откуда, неопределяемо, ибо невесомо, прозрачно-беззащитно рождались звуки). Пожарный в бутафорском шлеме полез было, пополз на корточках, на карачках, застучал, погремел, примериваясь; старший нагнулся, поколдовал. Нет, решительно не спорилось: забыли (или случай особый), нужен еще один прибор. Контролеры, машинисты, уборщики, кассирши, служащие метро слонялись (разбуженные ночью мухи) бледные, запуганные. Только пожарные и полицейские больше зря не суетились, солидно ждали инструмента, перекидываясь редкими замечаниями профессионалов-мастеров. Раз воскресной, летней ночью в госпиталь привезли контуженного в драке. Случай банальный, требовал, однако, немедленного вмешательства. Я попросил сопровождавшего пьяную жертву полицейского мне помочь. Едва, после разных манипуляций, я вонзил иглу шприца в обнаженный мускул, как страж, огромный дядя, съедающий быка, пробормотав воркующим голосом несколько слов, кулем грохнулся на пол. «Я очень впечатлителен», – признался он потом, весь покрытый испариною. Теперь вот он ходит большими сапожищами, служит, распоряжается, а меня, если толкнуть, – упаду (колени, колени). Мы привыкли к разным постановкам смерти: я знаю ее в белых ширмах, с эфиром и неслышной сестрою. А ему доступнее эта, особая, железнодорожно-пожарно-судебная, где пятна в щелях, лужи, прилипшие к телу лоскутья, пряди волос неизвестного происхождения. Бесплотный голос давно уже смолк. Вот издалека: сапоги – по лестнице бегом. Несут, пятясь задом, аппарат. Кругом облегченно дрогнули, переместились. Сжатым воздухом поднимали вагон: шипел нагнетаемый газ, медленно всплывала тяжелая рама (чудилось, сейчас сорвется: воздух ведь). На путь подали узенькие носилки, устланные землистою парусиной; двое поползли с ними под оси. Мучительно, мнимо неловко (о, как медленно!). Они уже хлопочут над чем-то (податливое и неповоротливое, что трясется, будто студень). Вот, впервые для меня, за ободьями, брусками шевельнулся край чего-то: подол, платок… И вдруг: рука, человеческая рука, неповторимая. Бледная (у рожениц такие), мелкая, детски послушная, со взлизом жирной грязи. Она высунулась было, странно двинулась, сползла вниз и снова, описав дугу вверх, скрылась. Путь назад, позвякивание металлических частей: пряжек, колец, касок. Подняли носилки: один конец… другой – на площадку. Завернутая, подоткнутая парусиною, легкая, тоненькая. Только на мгновение: молния, след лица. Крохотное, землисто-меловое. Уже не молодая. Детская, нежная кожа в пятнах. Спит, трудные роды (главное свершено); слабая, но ух как много осилившая, железо протиравшая. Тени ржавых, землистых лишаев, взлизы грязи, а лоб – знакомый. Ловко подняли, умело понесли, вильнули в дверях: коридор, лестницы и – главный выход на Place de la République , где нас ждала довольно многочисленная для этого часа сумрачная толпа обывателей. Ловко бросили носилки в машину, тронули в сторону St. Louis , молодцевато вскакивая на ходу с привычной, горделивою четкостью движений, свойственной профессионалам (так опытная проститутка победоносно вихляет задом, ведя уже сговоренного клиента, хирург торжественно кладет последние, изящные швы, взломщик лихо распахивает дверцы несгораемой кассы). Пустынен и задумчив проспект ночью (что-то гложет его сердце). Случайный попутчик, шлепая с той же быстротою, долго плетется рядом, медленно отставая (или обгоняя). Они бормочут, напевают, странные неудачники, фантомы (в писсуарах оккультно шумит светильный газ, там классовые лозунги и порнографические рисунки, гильотина и разврат). На скамьях, в нишах подъездов, смиренно почесываются спросонок бездомные – замерзли, оступились в камень, в тень. Рука, всё та рука предо мною! Чем, чем – знакома ли, напомнила важное? – чем она меня стегнула по глазам… (согреть бы дыханием!). И вдруг взрыв: «Она ведь мертвая, эта рука!» Противоречие: такая рука должна оставаться неподвижною, а она перемещалась (по чужой воле). Несоответствие поражало, коробило. Да, да. Бледная, грязная, нежная, слабая, что осиливала, что творила, держала, как грешила и каялась. Мать моя, дочь. А лицо – роженицы, истекающей кровью. В мешке, подоткнутая. И лоб (где я видел близко такой!). «Господь, прими эту душу. Прими и прости!» – повторил я уже грозно, с чувством бессилия, будто собираясь пальцем сверлить гранит: только лишь предполагая сопротивление (так в семейной жизни одна половина, подозревая, что вторая начинает сердиться, мгновенно тоже раздражается). «Нет, нет, нет, что мне наконец делать! – шарахался я, не желая попасть в старый, знакомый тупик. – Вот. Сначала. Помоги. Вот эту душу, которую я, не ведая, приял (будучи средним и ничем), ее утешь. Прости ей: за страх и горечь, за муку разницы (сви-и-исссток), и мужество (ведь трезвая), согласилась безгласная. И за эту молитву. Отец, если дух мой что-нибудь пред Тобою, вот кидаю его на весы. Сделаю все положенное, все, что помню, что подскажешь, любое приму (только не бормашину). Иисусе, укрепи мою молитву. Вот человек и неслыханный его земной путь (Тебе знакомо), он в жизни по-разному слонялся, едва, едва связал концы с концами. Господь, прими новую душу! Согрей, исцели. Прости, чтобы не было позади. Дай мне искупить долю ее грехов. Если надо, стану святы-ы-ы-ым». Рука (детская, но рожавшей) опять зашевелилась, близко, покрытая крапом смерти, слабая, кроткая, со ржавыми взлизами (дыханием согреть!). «Далась тебе рука!» – и вдруг я, униженный, остановился, обмер, пораженный в самое сердце, опозоренный догадкою: «А будь это мужик, мужская?» – и, ошельмованный, прислонился к автоматическим беззвучно, малиново мигающим весам, косно стремясь внешним движением исчерпать внутреннюю сумятицу: пристыженный, потный, возмущенный (так беглого каторжника часто опознают в минуту его наивысшего торжества, по дороге в церковь с богатою, знатной невестою). «Что же это, Господь, даже помолиться нельзя без сексуальности!» – отчаянно, кичливо, с претензией возопил я, обманутый в лучшем порыве, осрамленный, спущенный вниз (коленом наддали). А когда уже не было ни сил, ни охоты продолжать этот диалог, наступила тишина, симметрия, не мира, а усталости. Туда, как в пустоту, устремились заштатные гении, разные шепоты и запахи, производя ответственные изменения. Быть может, важно не откуда исходит чувство – пусть из навоза, а к чему ведет, толкает. И здесь я воистину оправдан, освящен. Неожиданно торжествующий, победителем, я продолжал путь, славя Творца, таинственным образом приобщаясь к Его могуществу. Иногда, кусая мысленно губы, подпрыгивал (или, наоборот, приседал), вспоминая, как возле меня кружил человек, целый день ждавший чуда (я легко мог бы его совершить). О некоторых других, предыдущих знакомцах: безработный, он неловко попытался ограбить ювелира (убил), потом двое суток бродил по городу без пристанища и, посидев на лавочке против освещенного кафе, вечером стрельнул себе в рот… как-то женщина шла в осенние сумерки спереди меня, с двумя детьми (один на руках, второй рядом ставил кукольные ножки). На ней были холщовые туфли, чулки, доверху мокрые, а вокруг – вселенная. Веселье, огненный (яростный) свет били в мою грудь. Больше не страшно, словно я знал уже, что делать, или чувствовал: скоро узнаю. «Промедление смерти подобно». Казалось, решительное произошло или – близко. Так противный морской ветр становится попутным, когда меняешь галс [148] . «Воспрянул, воспрянул, зря не истрепался, – шептал. – Осанна, осанна». И просил только, чтобы очередная поганая случайность (проклятие этой жизни) не подкралась вдруг и спутала (не впервые) все карты, отбросив за ту межу, когда снова, годами, мне придется отлеживаться, заткнув уши и ноздри, пока не приспособлюсь, залижу раны, обрету необходимое для действия равновесие. Меня несло по темной сети мелких переулков.
Похожие книги на "Портативное бессмертие", Василий Яновский
Василий Яновский читать все книги автора по порядку
Василий Яновский - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки My-Library.Info.