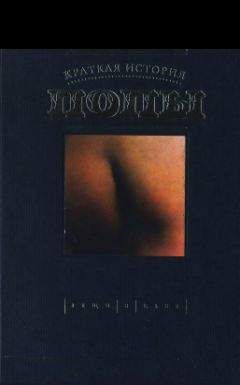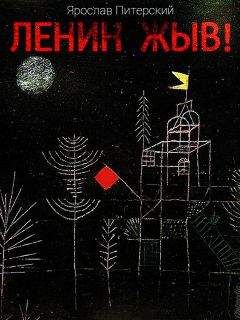Их нужно было освобождать, этих огнеупорных большевиков-подпольщиков. Как? Он был сам, можно сказать, комиссар. Дружба со Свердловым обязывала его к помощи. Но этих десять человек попробуй спрячь где-нибудь. Составить липовую бумажку с печатью было делом нетрудным – пишущая машинка всегда под рукой. Убедить Авдеева отдать сидельцев под расписку… отдаст, куда он денется! А вот дальше наступал какой-то туман. Может быть, освободить одного Свердлова? А что будет дальше? Свердлов возвратится в столицу, чтобы бороться за власть, я знаю его характер, он свое не упустит. Но вспомнит ли он Юровского? Ведь год назад, когда большевики всё перевернули, не вспомнил. Так где уверенность, что я снова не крайний?..
И был вариант второй. Настолько верный и страшный, что Яков Михайлович не смог додумать его перед сном. Стоит копейки, а прибыль принесет чистым золотом, которым обернется дерьмо, вычерпнутое мной из дома Ипатьева.
Тогда и сочтемся славою. Поглядим, о ком в учебнике истории будет мелкая сноска, а кому перепадет целая глава!..
Через две недели председатель Уральского совета Белобородов поставил вопрос о расстреле видных рево-люционеров-подпольщиков, ссылаясь на распоряжение из Петрограда.
Было 12 ноября 1918 года, в стекло Волжско-Камского банка била ледяная крупа первого снега.
В накуренной комнате висело угрюмое молчание.
– Кто сделает? – спросил Юровский, нарушив его первым.
– Должен комендант, – сказал Белобородов, взглянув на Авдеева.
– Я с себя полномочия слагаю, – твердо ответил Александр Дмитриевич.
– Тогда сдавай партбилет.
– Ставь вопрос на голосование; если товарищи согласуют, тогда и сдам.
– Не надо ставить, – снова вылез вперед Яков Михайлович. – Сашка простужен, и оттого голова у него оборудована под туман. Давайте сразу по главному вопросу.
– Кто за то, чтобы наших верных товарищей… – здесь Белобородов запнулся, хотел сказать «революционеров», но не смог, – …контрреволюционеров… подвергнуть исключительной мере?
Нехотя поднялось вверх несколько рук из президиума – Дидковский, Голощекин, Толмачев…
– А ты? – спросил председатель у Авдеева.
– Решительно возражаю, – ответил бывший комендант Ипатьевского дома. – Без суда… по одной указке из центра… что это такое?
– Тогда вон отсюдова! – указал ему на дверь Белобородов.
– Ухожу. И своих товарищей из охраны забираю. Нельзя отравлять сознание людей бессудной расправой.
Авдеев поднялся, затушил махорку о собственную ладонь и, высыпав остатки в стакан председателю, вышел в коридор.
Он умрет в 1947 году от туберкулеза, сделав то, что не позволяла его физиология, – усыновив мальчика-сироту из Казахстана и поставив его на ноги…
Белобородов вылил свой испорченный кипяток в засохший цветок на окне.
– А ты почему не голосовал? – спросил он у Юровского.
– Я воздержался. Сами должны понять почему, – ответил Яков Михайлович ледяным тоном.
Председатель тяжело вздохнул. Он слышал местную легенду о дружбе двух Михайловичей, которая теперь перечеркивала Юровскому дальнейшую партийную перспективу.
– Может, ты на себя возьмешь? – спросил он у Дидковского.
– У меня – гланды, – напомнил тот.
– А ты?..
– Зачем на других сваливать? – заметил Толмачев, к которому был обращен последний вопрос. – Кто здесь главный, тот и примет эту кровь на себя.
– Я не могу, – сказал Белобородов. – Субординация. Что наверху скажут? Что в Уральском совете не нашлось никого, кроме председателя, чтобы поставить точку? Может, на Урале вообще нет коммунистов, кроме меня?
– Может быть, – согласился Юровский. – Но мы должны понять целесообразность этой меры. А потом уже решать, кто поставит точку.
– В партии – заговор, – пробормотал Белобородов, тяжело дыша. – И она находится на грани. Эти лица причастны к насильственной немощи Ильича, и на этот счет скоро придет письменное разъяснение.
– Предлагаю отложить, – сказал Юровский, – до срочного письма.
– Нет, – отрезал Белобородов. – Они торопят, и я здесь все покрываю.
– Пусть Яшка и стрельнет, – предложил Голощекин, пуская дым кольцами.
– Как это ты себе представляешь? – иронично спросил у него Юровский. – Что я одним маузером перебью десять человек?
– Это сделает отряд, который ты сформируешь.
– Еще хуже. Будут свидетели, которые расскажут, как мы распорядились. А если всех реабилитируют через сто лет? А то, гляди, и канонизируют чохом?
– Нужно брать в отряд таких, которые не расскажут, – произнес Голощекин.
– Немых?
– Тех, которые по-русски ни бельмеса…
Здесь Белобородов подошел к члену президиума Голощекину и страстно поцеловал его в лоб.
– Австро-венгры! – страшно прошептал председатель. – Есть такие!..
Он имел в виду венгерских военнопленных, которые находились близ города на поселении и, не выучив русского языка, на всякий случай вступили в партию большевиков.
– Будешь с австро-венграми?!
– Ну, я не знаю… – пробормотал Юровский лениво. – Нужно раскинуть умом. Ты меня не торопи.
А чего тут раскидывать? – подумал он. – Если Свердлов – враг, то и все друзья его будут во врагах. Тут-то мне и каюк. Это у нас быстро. Глазом моргнут, и меня исчезнут.
– Проголосуем, – поторопил председатель. – Кто за то, чтобы сделать Юровского Якова Михайловича комендантом дома особого назначения с возложением на него секретного вопроса?..
В воздух поднялись руки присутствующих. Бывший часовщик наклонил голову к коленям, изображая тоску. Но внутри себя он был доволен. Второй вариант, гарантировавший безопасность, сработал как механические часы первого класса точности.
…Вечером того же холодного дня он подошел к бараку, в котором жили военнопленные.
Открыв дверь и встав на пороге, выкрикнул по бумажке:
– Лайонс Горват, Анзелм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмил Фекете, Виктор Гринфелд, Имре Надь, Верхаш Андреш!..
В бараке висел горячий туман. В большом чане, поставленном на металлическую буржуйку, кипятили белье, и голый по пояс венгр с татуировкой розы на левом плече размешивал белье деревянной палкой.
– Чего тебе? – спросил у Юровского голос без акцента.
Яков Михайлович удивился. Ему сказали, что военнопленные не говорят по-русски, а здесь одна фраза на родном языке смешала карты и произвела вместо подкидного дурака сложный европейский покер.
Перед ним стоял седоволосый сухой человек с томиком Гейне, открытым на середине.
– По-русски понимаешь? – изумился комиссар.
– А почему нет? Здесь люди с образованием. Не вам чета.
– Фамилия! – рявкнул Яков Михайлович, намереваясь поселить одним своим голосом сумятицу в умах.
– Эдельштейн Изидор.
– Звание!..
– Командир артиллерийской батареи.
Из офицеров, – подумал Юровский. – Значит, интеллигенция. Как же мне не везет!..
– Вот что, товарищ Эдельштейн. Мне нужны люди, годные под расстрел.
– Вы хотите нас убить? Есть постановление суда или военного трибунала?
– Вы меня не поняли, товарищ Эдельштейн, – терпеливо объяснил Юровский. – Кого расстрелять – их всегда много. Здесь целый город можно смело ставить к стенке. Мне надо не кого, а кто. Кто расстреляет и кого потом наградят.
Эдельштейн закрыл томик Гейне, загнув уголок страницы и сделав тем самым закладку. Сказал что-то по-венгерски своим товарищам. Те возмущенно загалдели.
– Расстреливать никого не будем, – коротко сказал военнопленный, переведя иностранный ропот на русский язык.
– Основания? – кротко спросил Юровский.
– Мы не каратели.
– Но вы же еврей, товарищ Эдельштейн. И коммунист. А вам приказывает другой такой же коммунист. Даже просит.
– Я прежде всего венгр, – сказал Эдельштейн. – И в ваших русских играх участия не приму.
– Венгр… А что это значит – венгр? – пробормотал Юровский, наливаясь уже не раздражением, а жгучей злобой. Она начинала капать вниз, как мякоть сливы, которую сжали в кулак.
– Венгр – это значит… – Эдельштейн задумался. – Есть такая река Дунай… Она течет посреди Будапешта. В летний ясный поддень, если встать на холм, можно увидеть вдалеке Вену. Она совсем рядом, в сорока верстах. Белый город встает из речного тумана… Рыба спит, и птицы от жары не поют…
Он запнулся, голос его дрогнул.
– Нет. Венгр – не это, – сказал Юровский, терпеливо выслушав его короткую исповедь. – Венгр – это твой барак. Чтобы крепкий дом сгорел, нужно подпалить его с четырех углов. А здесь хватит одного. Плеснуть керосина, когда вы спите, и зажечь. Хорошо будет. Тепло, как в Будапеште.
– Уходите отсюда, – прошептал офицер, – пока вас не разорвали в куски.
– Я-то уйду, – ответил Яков Михайлович. – Но ты никуда отсюда не уйдешь. Упреешь вместе со своим бараком. Как клоп. Это тебе и будет моя любовь за теплый прием.
…Он вышел на ветер, задыхаясь и кашляя. В его сознании мгновенно промелькнула странная химера: он в кремлевской больнице медленно умирает от рака и перед смертью, в боли и отчаянии, надиктовывает секретарше радостные воспоминания об Ипатьевском доме. В назидание потомству. В упрочение своей исторической роли, которую он сознательно сыграл.