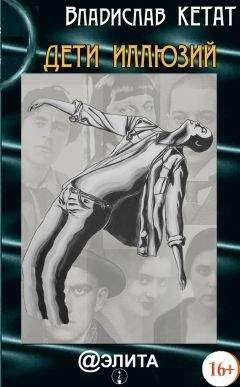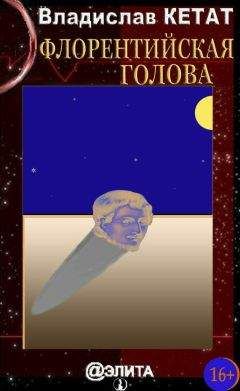Ознакомительная версия.
Но на последнего гостя я всё же обращаю внимание. В образе барона Майгеля – в чёрной паре и белоснежной манишке – на сцене появляется Че, которого хорошенько пошатывает. Взявши друга в прицел, я замечаю, что он, ко всему прочему, невероятно бледен.
«Интересно, как это ему удалось так глубоко войти в образ?» – думаю я.
– А! Милейший барон Майгель! – восклицает Воланд.
Че отвешивает ему неловкий поклон и пятится назад.
– Милый барон, – продолжает Воланд, – был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил мне, предлагая свои услуги…
В ответ Че, как мне кажется, несколько натужно улыбается и снова кланяется.
– Да, кстати, барон, разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности…
– Посмотри-ка на Серёжу, – обращаюсь я к Дону Москито, – тебе не кажется, что…
А в ответ, прямо как у Владимира Семёновича, тишина. Моего друга, как будто тут и не было вовсе.
Некоторое время я пребываю в нешуточном замешательстве, затем начинаю успокаивать себя мыслью, что ему, возможно, просто приспичило, и он решил спуститься вниз, в туалет. Ещё какое-то время я размышляю: не пойти ли за ним, но решаю всё же досмотреть спектакль до конца.
Че, то есть Барон Майгель, теперь ещё белее, чем прежде, и дрожит всем телом. Мне кажется, он что-то тихо говорит, обращаясь сначала к Воланду, а потом к Азазелло, но что именно, я не могу разобрать. Видимо, ничего от них не добившись, он делает шаг назад, но стоящий сзади него Коровьёв пихает его в спину так, что тот оказывается снова там, где был секунду назад.
– …так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, – заканчивает Воланд.
Че смотрит вверх, в зал, возможно, высматривая меня; наши взгляды в какой-то момент встречаются, и я вижу в его глазах неподдельный, мало сказать – страх. Ужас.
То, что происходит дальше, до этого момента я не мог представить даже в самом страшном сне. На сцену со стороны правой кулисы выбегает Дон Москито и, вырвав из рук Азазелло револьвер, с криком: «Беги!» начинает по-ковбойски, с бедра палить в Воланда и свиту. Вокруг стрелка образуется приличное облако сизого дыма. На сцене происходит небольшая паника: напуганные актёры в большинстве своём перемещаются влево, подальше от незапланированного в пьесе персонажа, лишь Воланд и Маргарита стоят, где стояли. Монументами возвышаются они над происходящим.
От возбуждения я вскакиваю с грязного стула, и поэтому на секунду или две теряю Дона Москито и Че из виду. Когда же мне снова удаётся навести на них окуляры бинокля, первый уже сидит на полу безоружный, закрыв лицо руками, а на груди у второго начинает расти алое пятно, к которому, спустя мгновение, кем-то из свиты подставляется золотая чаша.
– Глупец! – громко, словно стараясь кого-то перекричать, произносит Воланд. – Что ты хотел изменить?
По залу прокатывается ропот.
– Я пью ваше здоровье, господа! – Воланд поднимает левую руку в приветствии и прикладывается к чаше.
В зале становится темно, и с промежутком в несколько секунд раздаются три громовых раската. Включается свет, да такой яркий, что вся сцена теперь представляет собой большое белое пятно.
На переднем плане стоит обновлённый Воланд. На нём чёрный бархатный плащ и берет с пером, а сбоку сверкает длинная шпага с золотым эфесом. Рядом с Воландом – Маргарита, которая в потоке яркого света кажется невесомой. Больше на сцене никого нет.
– Пей! – говорит Воланд, протягивая Маргарите чашу.
Маргарита покорно принимает её двумя руками и делает долгий глоток. Капелька ярко-красной жидкости убегает из уголка её рта по шее, затем по левой груди и останавливается на животе. Снова гремит гром, где-то за сценой начинает играть марш, поют петухи, и становится невообразимо темно.
Свет зажигается минуты через три-четыре, за которые зал успевает перейти от недовольного бормотания к предпанической возне. Видимо, верно, что страх темноты из человеческих страхов наипервейший.
Дождавшись, когда на сцене начнётся какое-то действие, покидаю «позицию». Меня раздирают два противоположных желания: узнать, что случилось с Доном Москито и досмотреть спектакль. Я всё-таки выбираю первое, поскольку судьба друга, безусловно, важнее.
К счастью, Дон Москито оставил самую маленькую дверь в Москве открытой. Выбираюсь наружу, прохожу пустыми коридорами до зала с батальной сценой, и в фойе нос к носу сталкиваюсь с каким-то высоким мужчиной в смокинге.
– Эй, я второго нашёл! – кричит тот, завидев меня.
Мы сидим плечо к плечу на неудобной лавке в небольшом кабинете, стены которого оклеены старыми театральными афишами. В центре Че, справа Дон Москито, слева я. Состояние у меня хуже некуда. Подозреваю, что и у остальных не лучше.
– Если бы вы сорвали спектакль, – говорит нам плотный человек с седой шевелюрой, сидящий напротив нас в огромном кожаном кресле, – я бы вызвал сюда наряд милиции, и сдал бы вас им с потрохами. Но так как спектакль удалось спасти, я этого не сделаю. Театру не нужны скандалы.
Мужчина тяжело поднимает свои телеса из кресла и, опершись обеими руками на стол, продолжает:
– Вообще, то, что вы сделали, классифицируется как хулиганство, если я правильно понимаю уголовно-процессуальный кодекс. А за хулиганство, между прочим, можно и срок схлопотать! Да-да, срок! Это я в первую очередь к вам обращаюсь, молодой человек!
Дон Москито поднимает свою, до этого низко опущенную голову.
– Простите, я не знаю, что со мной произошло… – чуть не плачет он, – я правда испугался, я думал, что Серёгу сейчас по-настоящему застрелят… я завтра же пойду ко врачу, обещаю…
Мужчина с седой шевелюрой устало валится обратно в кресло:
– Лучше бросьте пить, пока не поздно! Вы же себя не контролировали, судя по всему! Как вы дальше жить собираетесь?
– Да, да, я брошу, брошу, – ноет виновник, – больше ни капли…
– Скажите спасибо Волкоевскому за то, что он вовремя сориентировался, – не унимается вошедший в раж обвинитель, – иначе бы точно спектакль бы сорвали, а это, как я уже говорил, хулиганство, и сидеть вам сейчас не здесь, а в КПЗ!
Под Волкоевским он, скорее всего, имеет в виду актёра, который играл Воланда, но уточнять не хочется.
Дверь в комнату приоткрывается, и в образовавшуюся щель просовывается голова того длинного, который поймал меня в фойе.
– Товарищ директор, уже половина, спектакль заканчивается, – скороговоркой выдаёт он, – позвать сюда кого-нибудь?
– Ни в коем случае, – шикает на него наш обвинитель, который, оказывается, не кто-нибудь, а директор театра, – самосуда тут нам ещё не хватало! Собери у этих двоих номерки, возьми в гардеробе их одежду и принеси сюда. Не хочу, чтобы они там толкались. Ну, чего смотришь, беги быстрей!
С недовольной рожей длинный делает то, что ему сказали, и быстро удаляется. Наступает пауза.
Посверлив нас глазами вволю, директор встаёт. Мы тоже поднимаемся.
– Приговор таков. Ограничимся бутылкой «Абсолюта» Волкоевскому, бутылкой «Хеннеси» мне, бутылкой водки Денису, который пошёл за вашими шмотками, ну, и бутылкой «Мартини» Женечке Столяровой, нашей дублёрше, она тоже была молодцом, опять же, восьмое марта…
Не могу поверить, что всё так просто заканчивается…
– …ну, а вас, Четвериков, я в понедельник жду здесь со всем перечисленным и с заявлением по собственному желанию. Вы у нас больше не служите. И попрошу не обижаться.
На Че страшно смотреть. Из высокого и импозантного он превратился в маленького и жалкого.
– Но, Михаил Петрович… – тихо начинает он.
– Никаких «но», – отрезает директор, – за свои поступки надо платить!
После стука в дверь появляется Денис с нашими вещами. Одеваемся. До меня только теперь доходит, что Че до сих пор во фраке и гриме. Зелёный китайский пуховик на нём смотрится более чем дико.
– Простите нас, пожалуйста, Михаил Петрович, – говорит Дон Москито.
Директор возвращается на своё место.
– Взрослеть надо, мужики! Взрослеть! А теперь все вон! Слышите, во-о-он!
Выходим из театра из какого-то бокового выхода. Денис с грохотом закрывает за нами тяжеленную с виду дверь.
– Серёж, – говорю я настолько спокойно, насколько могу, – надо поговорить.
– Надо, Валер, – отвечает он. – Даже очень.
Кабак в двух минутах ходьбы от театра, на задах улицы Селезнёвской ещё пуст. Тут до, после, а бывает, что и вместо спектаклей пьют и закусывают господа артисты, а иногда и товарищи режиссёры. Это мне давным-давно рассказал Че. Полностью название заведение звучит как «Приют комедиантов», но обычно его именуют просто «Приют».
Мы занимаем столик в самом дальнем углу заведения, планировкой напоминающего букву «Г». Че берёт нам какой-то безумно крепкий кофе и заставляет выпить. Только после того, как мы справляемся со своими чашками, он начинает говорить. Поначалу медленно и запинаясь, но потом связно и логично. Точкой отсчёта он выбирает свою боевую молодость, которая выпала на времена, когда потенции таких же, как он, молодых ребят, как по волшебству, многократно возросли, а жизнь их, также вдруг, и столь же многократно, потеряла в цене. Многие из них протухли потом на городских свалках или разложились в канализационных отстойниках, но некоторым, как ни странно, фартило (сейчас их разжиревшие до неприличия физиономии можно периодически наблюдать по центральному ТВ).
Ознакомительная версия.