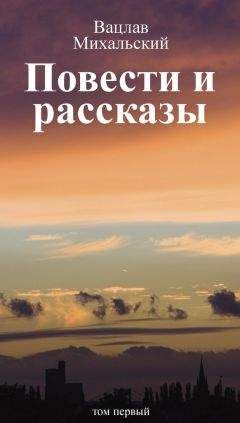В канун Нового года отец всегда устанавливал в зале елку, до самого потолка, и они с Сашкой помогали ему. В те дни в квартире пахло хвоей, снегом и мандаринами, что приберегала мама к Новому году. Елку опутывали цветными лампочками и дрожкими стеклянными бусами, увешивали блестящими шарами и забрасывали хлопьями белой ваты. В новогодний вечер тушили люстру, и в комнате воцарялся зеленовато-красный сказочный сумрак. Отец открывал форточку, и в комнату залетали снежинки и таяли, долетев до пола, и врывался последний декабрьский ветер, а отец улыбался и говорил:
– Иди, мамка, послушай, как шагает по земле Новый год!
Но маме всегда было некогда, обязательно в эту минуту на плите что-то дожаривалось.
Сашка, Лешка и отец, смеясь, старались разом просунуть головы в форточку.
– Хватит вам дурачиться, холода вон сколько напустили. Лучше помогите мне, – отгоняла их от окна мама.
И начиналась веселая суматоха. Когда все было готово и оставалось ждать только двенадцати часов, отец, боясь, что мальчишки уснут, рассказывал свои военные истории.
– Это было в Карпатах, это было далеко. Вдоль маленькой речки шел фронт. Нас послали на чужой берег за языком. Была ночь, и лес угрюмо шумел над нашими головами. Мы шли трое… – начинал он, и братья замирали.
Потом, когда набегавшись вокруг елки, встретив Новый год, они заканчивали ужин, мать, как девчонка, забравшись с ногами на диван, просила:
– Папочка, почитай что-нибудь.
И отец читал наизусть. Читал тихо, но выразительно. Голос у него был удивительно гибкий и словно прозрачный.
Читал он «Медного всадника» и «Демона», «Мцыри» и «Василия Тёркина», «Я помню в Вязьме старый дом…» и многое другое. Хоть и не все было понятно братьям, но они слушали его, как галчата, широко раскрыв рты. А мама в эти минуты становилась красивая и молодая.
Потом, обнявшись все четверо, они сидели на старом теплом диване и, чуточку покачиваясь, пели любимые песни.
Утром прямо с постели бежали во двор растереться снегом, как говорил отец – поздороваться с Новым годом.
Да, так бывало раньше.
А в этом году впервые не стояла в зале елка. Перед самым праздником отец запил. В канун Нового года двое неизвестных приволокли его бесчувственного и бросили на кровать, на белоснежное покрывало.
Весь вечер прохлопотала мать, стараясь устроить ребятам праздник. Но веселья никак не получалось.
Мама открыла форточку и позвала:
– Идите, мальчики, послушаем, как шагает по земле Новый год!
Братья прекрасно поняли ее хитрость, скучно улыбнулись и, чтобы не обидеть мать, подошли к окну.
Как, почему, когда и зачем пришла в дом водка и заслонила их от отца?
Все чаще он приходил домой пьяным. Если мать молчала, придирался:
– Молчишь, принцесса! Ниже своего достоинства считаешь?
Стоило ей заговорить – обязательно выискивал в ее словах что-нибудь обидное.
Если вздыхала – орал:
– Вздыхаешь? Живется тебе плохо за моей спиной?
Коли улыбалась – опять не так:
– Улыбаешься? Смеешься надо мной, дурак я у вас, да?
В такие вечера маленький Сашка забивался куда-нибудь в угол, начинал хныкать, а Лешка тихо, чтобы вдруг не услышал отец, успокаивал его.
Вот и сейчас пьяный голос отца потушил все краски весеннего вечера, все чувства, все запахи. Грязные голые слова летели из разбитого окна и острыми камнями падали на братьев.
Словно в пустоте, тяжело и гулко колотится сердце.
«Зачем мы здесь расселись… Почему не поднялись домой?» – с безвыходной злостью подумал Лешка. Он покосился краешком глаза на Юнку. Она сидела бледная, с широко открытыми почерневшими глазами.
– У-у! – заревел пьяный голос.
Мальчишки рванулись к дому.
Загудели, загрохотали деревянные ступени в коридоре.
Мать, простоволосая, выбежала из подъезда. Большой взъерошенный отец настиг ее и ударил кулаком в спину. В следующее мгновение братья повисли у него на руках.
– Хо-хо-хо! Вырастил ты, Степан Григорьевич, на груди своей змею со змеенышами, – захохотал он и, широко разведя ручищами, отшвырнул сыновей в разные стороны.
Мать стояла белее акаций. Не гнулась, как прежде, а была прямая и высокая.
– Не смей! Не смей бить маму! – налетел на него сбоку Лешка и наотмашь ударил отца по лицу. И оцепенел – звон пощечины показался мальчишке громом.
Две женщины – мать и Юнка, замирая, следили за ними. Мать подалась вперед, готовая защитить сына, но Юнка, неведомо почему, удерживала ее за руку; она не думала, но ей хотелось, чтобы Лешка сам выдержал все. Маленький Сашка вырвался из рук матери, приняв боксерскую стойку, встал рядом с братом.
Не отец и сын, а двое мужчин стояли друг против друга. Один огромный, широкогрудый, с белыми от хмеля, как у вареной рыбы, глазами. Другой – по плечо ему, угловатый, тонкошеий подросток. Отчаянно сузились серые сыновьи глаза, худое тело подалось назад – сильный своей правотой, Лешка был готов на все.
Взгляд сына отрезвил отца. Самого себя, четырнадцатилетним хлопчиком с занесенным топором у стены темных сеней, увидел Степан Григорьевич – их с матерью пытались тогда обобрать бандиты. Колючие мурашки пробежали меж лопаток.
«Моя кровь. Горло перегрызет», – подумал и отшатнулся сорокалетний мужчина. Опустил глаза и, увидев перед своим животом подрагивающие кулачки Сашки, совсем отяжелел и попятился назад. Трезвея все больше, увидел еще: искривленное гримасой боли, посиневшее лицо жены и прекрасное лицо соседской девчонки, обнявшей ее за плечи. Затравленно озираясь, покачиваясь, побрел к воротам.
Первый раз братья почувствовали себя сильнее отца. Что-то навеки ушло из их сердец. Станет ли он снова для них тем, кем был?
Звякнула железная калитка, исчезла согнутая пополам, нелепая фигура пьяного. Сашка опустил кулачки.
– Мама, я пойду за ним, а то еще упадет где-нибудь, – сказал Лешка. Мать покачала головой.
– Не надо, сынок, пусть побудет один…
* * *Вечером Юнка не читала больше книжку про любовь. Теплый ветер кружил над пригородом воскресные переборы гармошек, но погрустнели и, казалось, потемнели белые акации.
Давным-давно я жил на свете белобрысым пацаном, слывшим у взрослых большим поганцем. Этот пацан через соломинку надувал лягушек, купался в грязных саманных ямах, воровал в соседском огороде морковку. Локти у него были постоянно сбиты, а на ногах не сходили цыпки. Необычайной худобой он был похож на ободранного кролика, а лопоухие уши его просвечивали на солнце. Он жил на окраинной улице, которая упиралась в ворота центральной больницы города. Обширная усадьба больницы была постоянным местом сборищ босоногой команды. Чаще всего собирались возле сумасшедшего дома. Это был длинный одноэтажный дом, стоявший в маленькой рощице тутовых деревьев, в стороне от остальных зданий больницы. Как только ягоды тута начинали розоветь, вся наша орда целыми днями сидела на деревьях.
Тутовники уже почернели на солнце, и вокруг наших ртов сделались от этого фиолетовые круги.
Мы слезли с деревьев, чтобы играть в ловитки, и, став в кружок, считались, кому водить. Неожиданно пошел слепой дождь. Размазывая редкие прозрачные капли по грязным своим животам, мы задрали головы к яркому солнцу и принялись орать.
Дождик, дождик, припусти!
Мы поедем во Кусты.
Тонкие, рыдающие вскрики заставили нас смолкнуть.
– Не хоч-у! Отдай! А-а-а! Отда-ай! – кричала дурочка Лена. Она просунула белые руки между синими прутьями оконной решетки и, схватывая тонкими пальцами капли дождя, всхлипывала:
– Дождь! Не хочу-у-у! Гильзы… гильзы… Ма-а-мач-ки!
Сумасшедшей было лет шестнадцать. Обычно она с утра до вечера сидела на широком подоконнике своей камеры и, качая тряпичную куклу, напевала:
Баю-баюшки баю,
Не ложися на краю…
Сидела, расплетала, заплетала и снова расплетала толстую каштановую косу и улыбалась сама себе.
Увидев, что это кричит Лена, мы засмеялись, потому что она всегда плакала и буйствовала во время дождя, и снова пустились приплясывать и голосить:
– Дождик, дождик, припусти!
Тогда мне некогда было думать, почему сумасшедшая Лена не любила дождь и что он мог отнять у нее.
Давным-давно позабылись имена и лица моих дружков. А Лена-дурочка почему-то осталась в моей памяти четкой цветной картинкой.
Однажды, совсем случайно, я узнал историю Лены. Мне ее рассказала старенькая няня, тетя Фрося, которая много лет работала в сумасшедшем доме и знала все.
* * *…Глухая, дождливая ночь опустилась над степью. Тленно пахли увядшие травы. По тракту проносились последние машины.
Тишина ожидания сковала пространство.
Скрипели колеса брички, звякали ведра, привязанные к облучине. Бричка нагружена до краев: сверху подушки и одеяла, торопливо связанные в узлы, а на узлах трое ребятишек, укрытых рядном.
Впереди, держа под уздцы лошадь, шла женщина. Ее босые ноги увязали в глине. За возом ковыляли дети. Их зубы выбивали лихорадку, веки смыкались. Облипшие грязью ноги с трудом двигались вперед…