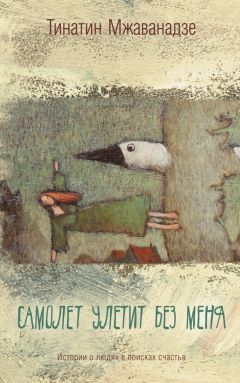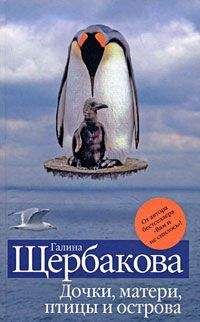Докторша
– …Проходи, проходи. Что же ты не перезвонила позавчера – у меня распорядок жесткий, ждала-ждала и пациентку отпустила. Давление было низкое? Ну не знаю. Ладно, раздевайся – вот тут, возле батареи, и ложись.
Нет, не будет больно. Это у тебя что – кесарево было? Шовчик грубоват. Все, кто понаглее, скальпель в руки берут. А я как дура – научила мама скромности, вот и сижу в поликлинике всю жизнь. Не дергайся – ничего не больно, что ж вы такие нежные, как с мужьями ложитесь, я не знаю. Хотя вон синяки – явно не от шкафа. Да? Хе-хе-хе. Да ладно, чего тут смущаться.
Так, промываем. Потом свечку и тампон. Вечером вытащить и промыть.
Чем тебя лечили? С ума сойти. Кому дипломы раздают, озвереть можно. Да и вообще – с этой самоуверенностью, наверное, надо родиться. Или как воспитают. Мне вот мама никогда слова доброго не сказала – ну не в том смысле, что не любила, а – хвалить вредно.
Я же отличница была – везде, по всем направлениям. А она мне в письмах Честертона подчеркивала: незаслуженная похвала – насмешка! Вот я до сих пор от похвал дергаюсь: правду говорят или смеются.
Диссертации пишут все, кто буквы читать умеет хотя бы. А я пару статей написала – год над ними работала! И до сих пор трясет, когда вспоминаю, что напечатали.
А мама даже не то что хвалить, на каждом шагу меня назад отдергивала. Я маленькая была ничего так, с кудряшками. Ей скажут – какой у вас милый ребенок! А она – нет хотя бы промолчать, ну что ей стоило, да? Обязательно скривится и отмахнется – эта?! Да мышонок! Трава в тени! Я иногда смотрю на себя в зеркало – вроде не кривая, не косая, а все думаю, что страшненькая.
…Так, теперь оденься, вон уже посинела, и переходи сюда – прогревание будем делать. Семь минут. Нет, точно не больно. Не горячо? Это чтобы лекарство лучше впиталось. Подожди, звонит кто-то. Алло! Да, дорогая! Что?! Ура, как я рада! Я же тебе говорила – все будет хорошо! Видишь – на второй месяц забеременела! Молодец, молодец, береги себя. А муж что сказал? Плачет? Ой, до чего эти мужчины слабонервные. Поцелуй его от меня.
…Ну и вот. Один раз я пришла из школы, обед сварила, потом села уроки делать – так собой гордилась, не девочка, а гордость Вселенной! А мама пришла, посмотрела и говорит: вот ты не умеешь время распределять – могла же пол протереть, пока обед варился! Да, вот так вот. Хотя она и к себе такая всегда была. И я думала, что так надо. Знакомо, да? Это поколение такое. А ты своих детей хвалишь? Серьезно? Ну не знаю. Мне до сих пор кажется – это дурной тон. Хотя – что хорошего из меня вышло. Да, все неплохо. Но я никогда не рисковала. Иду по жизни, как бульдозер – медленно и верно. А ведь могла взлететь. Что теперь говорить.
Да какая я молодая, что ты говоришь. Вот тебе салфетка, вытрись. Завтра в это же время.
– У нее каждый месяц кто-то беременеет, – говорит Верочка, грея руки на батарее. – А у самой детей нет. Сапожник без сапог, классика.
Я не очень люблю кошек, я собачник.
Нет, не так.
Я их всех люблю, но по-разному. Собак я понимаю, и они меня тоже. А кошки мне нравятся, но они для меня как женщины незнакомой породы – я не такая.
У меня был первый триместр беременности. Это самая неприятная стадия, когда несчастнее тебя в мире – есть, может быть, голодающие в Сомали, или какие-нибудь беженцы, бредущие по снегу через горы в неизвестность, но я – точно в первой десятке. Живота пока нет, запахи атакуют, и нет никакой защиты, и липнет всякая зараза, что хочешь делай.
Это самое бессильное ожидание – ты ничего не знаешь, тебя твои ангелы передали в другое ведомство, сочувственно глядя вслед, и ты просто ждешь, пока решат твою судьбу, а это обычно долго.
Я сидела у камина в доме сестры, приехав в родной маленький город, промороженный и сырой от зимы и моря. Меня мучил бронхит, который налетал и рвал когтями дыхание, а столичная врачиха – молодая, гладкая – послушав легкие, участливо сказала:
– У вас еще срок совсем небольшой, можно прервать беременность, полечитесь и потом здорового ребенка родите. Антибиотики сейчас пить…
Не дослушав про последствия, я посмотрела на нее и отключила сознание, потому что мне опасно в такие моменты вспыхивать ненавистью, она может убить.
– Поеду к своему доктору, который Сандро вытащил, – сообщила я мужу, он меня посадил на поезд, и я покатила назад, в прошлое.
Сестра убирала квартиру, а я ждала ее возле горящего камина, одетая в шерстяной мешок, замотанная в шали, и дышала с присвистом, а в окне торчало бледное зимнее море.
– О, Кесария пришла, – отметила сестра.
В комнату вошла одноглазая поджарая кошка.
– Не шевелись, она не очень любит новых людей, – предупредила сестра. – Твой зять совсем с ума сошел на старости лет, всех окрестных зверей прикармливает, если бы я разрешила – и домой бы всех привел.
Кошка была похожа на бандершу из портового борделя. Она вперилась в меня одним глазом – злым и прищуренным, – я замерла и старалась не шевелиться.
– Она с собаками дралась, за котят. Видишь – через всю морду шрамы. Сожрали бы ее, да мы вырвали, домой принесли. Ошейник нацепили, а то она выходит наружу все равно, не знаю – поможет или нет.
– А котята? – фальшиво ласковым голосом уточила я, внутри все напряглось.
– Они тоже где-то в доме, места много, дети уехали, – сестра разогнулась. – Я сейчас оденусь, и пойдем.
В комнате остались только я и Кесария.
Она подошла ко мне и вспрыгнула на колени.
Ну что может сделать со мной побитая в дворовых боях беспородная кошка?! Я слушала треск огня и смотрела на некрасивого зверя. Она была серая, с еле заметными полосками, мускулистая, больной глаз прикрыт, второй смотрит – даже не знаю как. Ядовито.
– Кесо, Кесо, – позвала я ее на всякий случай.
Она медленно выпустила когти, они прошли сквозь толстую ткань и уперлись в кожу. Потом привалилась твердым боком к моему животу, свернулась, легла и закрыла глаз.
Не знаю, долго ли мы сидели так, молча, греясь друг возле друга. Я по-прежнему не знала, что мне скажет мой доктор, надо ли мне принимать антибиотики или, как в первую беременность, – пить литрами айвовый отвар, втирать мед в кожу, дышать паром над картофельными очистками, много ходить пешком по скучному парку и ждать, ждать, ждать, пока не родится тот, кто зреет внутри меня.
– Кесария?! – воскликнула сестра, войдя в комнату. – Да неужели это ты?
Кесо привстала, снова запустила в меня когти – чувствительно, но неопасно, и спрыгнула на пол. Пошла прочь матросской походкой, не оглядываясь.
– Я звонила, нас ждут через полчаса, как раз успеваем, – сказала сестра. – Ты отдохнула? Придумала тоже: больной и беременной ехать в нашем поезде, там и здоровый заболеет.
– Все нормально, – покашляла я. – Мне здесь полегче дышать, наверное – воздух влажный.
– Это самовнушение, – усмехнулась сестра. – Ты не вздумай никакие лекарства пить, знаю я этих врачей.
– А сколько у Кесарии котят? – вдруг вспомнила я.
– Трое, – удивилась сестра. – И все живы-здоровы. А ведь простая уличная кошка.
Все будет хорошо, успокоилась я.
Я пройду этот кошмарный триместр, а потом меня перестанут терзать запахи.
А потом будет весна, и тот, кто зреет внутри, вырастет как надо.
– А Кесария-то, – усмехнулась сестра снова. – Первый раз вижу, чтобы она к кому-то на колени пошла.
– Доброе утро, прекрасная леди, – профессор Ди улыбается фарфоровыми зубами, Ния теряется, краснеет, роняет сумку, путается в глаголах, судорожно вспоминает выученный только что и уже забытый урок и с размаху садится на венский стул.
Профессор Ди, хоть и принимает ее в домашней расслабленной обстановке – круглый стол, рояль, цветы, – внушает почтение до полного онемения: великолепная, короткостриженая седая голова, широко расставленные глаза цвета морской воды, черный наряд ниндзя, лучший в мире английский. Зачем, зачем я это затеяла, горюет Ния и складывает руки перед собой на столе, застланном удивительным цветастым покрывалом: оно пахнет сандаловым деревом и укором ее никчемности.
– Мы начнем разговаривать – обо всем, что придет в голову, это для разминки, а потом приступим к проверке домашнего задания, не так ли? – Глубокий голос профессора Ди щекочет диафрагму, как будто та говорит изнутри остекленевшей Нин.
В соседней комнате неясный шум, два раздраженных голоса бубнят про счета за газ.
– Мама! – резко зовет один из двух голосов. – На минутку иди сюда, я не могу с ними разбираться, поубиваю сгоряча, потом будешь разводить церемонии!
– Ты пока соберись с мыслями, я сейчас, – царственно роняет профессор и бесшумно удаляется по афганскому ковру.
Уфф, можно оттянуть казнь на пару минут. Ния обреченно разглядывает стены – массивы книг, невыразительные картины, смотрят строгими глазами святые с икон, а в углу на столике горит лампада и стоит засохший веничек самшита в стеклянной вазочке.