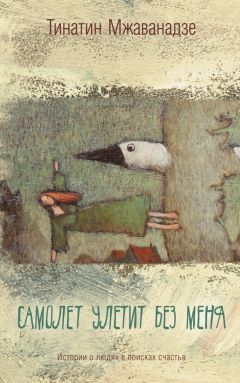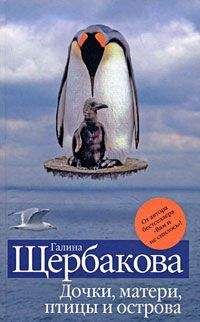– Мама! – резко зовет один из двух голосов. – На минутку иди сюда, я не могу с ними разбираться, поубиваю сгоряча, потом будешь разводить церемонии!
– Ты пока соберись с мыслями, я сейчас, – царственно роняет профессор и бесшумно удаляется по афганскому ковру.
Уфф, можно оттянуть казнь на пару минут. Ния обреченно разглядывает стены – массивы книг, невыразительные картины, смотрят строгими глазами святые с икон, а в углу на столике горит лампада и стоит засохший веничек самшита в стеклянной вазочке.
У меня дома такой же, немного успокаивается Ния, стараясь не слушать нервный диалог из соседней комнаты.
– На газ ты можешь выделять такую кучу денег, этим жуликам и аферистам, а мне, значит, ни копейки?! Да я сейчас ему морду набью! Что значит – замолчи, это мой дом, повыгоняю твоих учеников на хрен, и пусть знают, какая ты скряга!
– Извините, все в порядке, я сегодня же оплачу счет, не волнуйтесь, – ровно говорит профессор. – Всего хорошего!
Ния с перепугу начинает повторять вслух неправильные глаголы – надо было выучить тридцать, она с ужасом понимает, что они соскальзывают по ее гладкому мозгу и улетают в никуда. Я же учила, в отчаянии твердит она, вот только что перед выходом, а когда мне было еще зубрить, вечером у ребенка был жар, он не засыпал до часу ночи, а я не робот, меня тоже сморило, ну зачем я в это ввязалась…
Бубнеж за стеной стал глуше, постепенно затих, хлопнула входная дверь. Профессор вернулась на свое место, такая же невозмутимая, как всегда.
– Итак, начинаем, – произносит она, надвигая невесомые очки на нос: стекла висят в воздухе сами по себе, если бы я такие надела, мне бы с ходу стало лет шестьдесят, а у Ди – такая черепушка, Бог мой, устроит же природа иногда кому-нибудь бенефис! И как будто ничего не случилось – даже краски в лице не прибавилось!
Ния напряженно рассказывает про вчерашнее, про то, как ужасно капризничает ее младший, и что его невозможно оставлять вечерами, даже на концерт на днях не удалось пойти – он вцепился в ногу и не отпускал!
Ди понимающе кивает, поправляя ошибки, Ния униженно благодарит, рассказывает заново – с новыми ошибками.
Домашнее задание провалено с треском.
Ния от стыда уже даже не может оправдываться.
– Я учу, – глядя в дрожащие стекла диковинных очочков, говорит она. – Но через минуту – все пусто. Должно быть, мне не стоит писать диссертацию.
Профессор снимает очки.
– Моя дочь постриглась в монашки, – говорит она вдруг. – Один близнец погиб, а второй… вот что выросло. Я доверила детей бабушкам и дедушкам, они росли хорошими детьми, послушными, воспитанными. Мы с мужем ездили по всему миру и делали карьеру. Собственно, моя карьера и кормит нас всех сейчас. Ты думаешь, я, со всеми своими степенями, знаю, что я сделала не так?
Ния превращается в манекен – даже не дышит.
– Профессор, – запинаясь, начинает она, – у меня нет выбора – никаких бабушек-дедушек. Мне некому оставлять детей, чтобы ездить по миру или даже лишний раз посидеть в библиотеке. Я просто хочу начать восстанавливать все, что забыла. Может, мне надо бросить мучить вас и себя, ничего не получается.
Профессор Ди улыбнулась.
– Я выросла в британской традиции: сдерживать эмоции и жить интеллектом. А все кругом – такие эмоциональные. Я не понимаю их, а они не понимают меня. Мне показалось, что у тебя блестящий ум и из тебя выйдет толк. Но надо много работать, постоянно, не отвлекаясь. Вряд ли это возможно. Не так ли?
Ния думает – сейчас младший, скорей всего, спит. Когда он проснется, она должна быть дома, а иначе он целый день будет тревожиться и ходить за ней, как намагниченный.
– Я доведу эти уроки до конца, – упрямо говорит она. – Не знаю, что у меня получится. По крайней мере я выучила молитву Святой Троице на английском.
– Правда? – сдержанно сияет профессор Ди. – Ты читаешь ее перед началом каждого дела, как я тебя учила? Тогда дело непременно получится.
Ния пожимает плечами и неопределенно усмехается: пусть думает, что все именно так.
– Пожалуйста, просто вызубри эти глаголы, – прощаясь, напоминает профессор Ди. – И я не понимаю, что за сложность с временами. Это нужно сесть и понять раз и навсегда!
– Постараюсь, – Ния поспешно кидает в сумку тетрадки. – В моей голове просто нет свободного места!
Из прихожей – стук входной двери.
– Ба!! – звонко, как будильник, орет девчонка. – Мари порвала мои колготки, дай денег, я куплю новые!
Профессор поднимается с кресла.
– Ты все делаешь правильно, дорогая моя, – вполголоса проговаривает она. – Абсолютно все.
Помнишь, у тебя был бирюзовый пуловер? Или не бирюзовый… Изумрудный? Нет, стой, стой, я знаю, какого цвета – сине-зеленых водорослей! Вот, точно. И не свитер, а именно пуловер – с круглым горлом. Сине-зеленый.
А потом нам на лекции что-то рассказывали про племена, у которых для обозначения этих двух цветов есть только оно слово, и это слово – зеленый, они не различают между собой синий и зеленый цвета.
И знаешь, что было смешно? Точно так же не различают цвета в моей деревне. По-моему, это во всем крае у нас такая особенность языковая. Про синее говорят – зеленое. Я только что вспомнила твой пуловер – когда ты был в нем, я больше ничего не видела.
Помнишь, какой ты был? Худой, как волк, и смуглый. Ходил так, что деревья качались. И руки в карманы джинсов засовывал и потягивался, пуловер задирался, и живот было видно.
Да ну тебя, я не издеваюсь. Покажи руки – ну и где те пальцы?! Разъелся, как… ладно, не буду.
Я долго искала себе такой же. Мы же редко встречались в то время, и я бы тихонько носила сине-зеленый пуловер, как будто я – это немножко ты. Или мы носим одну и ту же вещь. Допустим, я надевала на ночь твою растянутую майку, и холодела душа. Иногда – рубашку на голое тело, – и горели уши.
А если холодно – я брала бы твой пуловер и ходила в нем, поддергивая рукава. Мне этот цвет ужасно идет.
Он идет нам обоим.
Но это все в воображении, не более.
Не нашла, зато нитки мохеровые попались, мотков пять, остатки, продавщица все перерыла, больше не оказалось, и я в своем барахле долго их хранила. Вязать не умела, даже не могла рассчитать, сколько надо на пуловер – явно больше пяти мотков. А если бы рассчитала, не взяла бы вовсе. Из них получился бы максимум большой берет.
Что ты смеешься? Ах, мое чувство юмора… С кем же ты живешь, что обычный разговор тебе кажется смешным? Ладно, не об этом.
Потом теть Роза научила меня вязать. Я вообще про эти нитки забыла, если честно, купила другие, много, целый килограмм, и связала платье цвета детской неожиданности – ага, сразу платье, я маленькие вещи не умею делать. Потом обнаружила и свой спрятанный мохер – маловато его было, но я все равно затеяла крошечный пуловерчик, вроде болеро – с открытыми плечами.
И знаешь что? Вышло очень красиво. Вязаный лифчик такой. С рукавами. Сверху на сарафан.
Главное, цвет был тот самый, который мне заменял тебя.
А что с твоим-то стало, помнишь?
Я тогда приехала тебя проведать, и ты был такой заросший, я тебя еще постригла черт знает как – тоже мне, чего ты на парикмахере экономил? Если бы отказалась, ты бы обиделся. А я стригла по вдохновению – в тот раз ты меня убил просто, в тебе жизни не было, помнишь?
И на сине-зеленом рукаве были дырочки, как будто тебя моль поела.
А я была вся нарядная, готовилась, прихорашивалась, но все равно ты меня не видел.
И вот тогда ты был нестерпимый и недосягаемый.
Я этот цвет не могу не любить.
Самый красивый цвет, скажи?
Я свой вязаный лифчик носила, да. Прекрати ржать, говорю. Я потом его перевязала на свитер ребенку. Ну помнишь, тогда ничего купить было нельзя – я все нитки смотала в клубки и что-то там узоры рисовала. Тебя тут вообще не было, ну вспомни – ты же уехал.
А еще знаешь, что у нас говорят про светлые глаза? Не цвет называют, а говорят – «пестрые». Класс, правда? Вот у меня пестрые глаза. А у тебя – черные.
Не любят наши пестроглазых. Говорят – они хитрецы и обманщики.
А я опять пуловер ищу, сине-зеленый. Почему нет одного слова, чтобы этот цвет обозначить? Никогда в магазинах не понимают, что я от них хочу.
Я не знаю, был ли в самом деле влюблен в меня К., известный в универе как Всемирный Бабник, но, что он за мной волочился, это очевидный факт.
Я не возражала – на то имелось несколько важных причин.
Во-первых, он был знаменитостью, во-вторых, волочился галантно, в-третьих – у меня в ту сессию не было стипендии из-за физрука-идиота, а родительских денег не хватало, и я против своих правил соглашалась на ужин в ресторане, а один раз даже позволила повести себя к парикмахеру.
Пока мне накручивали бигуди, К. читал биржевые новости, а когда я появилась с каравеллой вместо волос, он сделал квадратные глаза, и мы молча вышли на улицу.