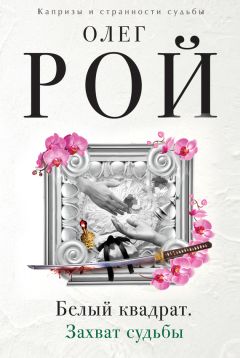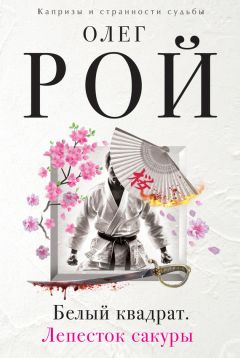Но не о боли и не о страданиях думал Фудзиюки, умирая. Он думал о том, достаточно ли сделал он для Ощепкова. О том, достаточно ли сделал для Спиридонова. Он думал о них и на смертном одре.
В последний день своей жизни он решил креститься и объяснил это желание так:
«Если Бог Викторо и Васы есть, возможно, то, что я сделал, Ему будет угодно. А еще, если Викторо или Васа, скорее Васа, захочет помолиться за своего Учителя, он будет молиться не за язычника, а за христианина».
Девятнадцатого декабря Фудзиюки Токицукадзэ был крещен владыкой Николаем. Согласно празднику того дня, он был наречен Николаем. В тот же вечер его соборовали. Об этом Фудзиюки уже не писал: кто-то вложил в дневник короткую записку, написанную хорошим каллиграфическим почерком на русском языке. По свидетельству этого неизвестного, перед смертью Фудзиюки прошептал несколько фраз. Фразы были библейскими. Незадолго до полуночи он сказал: «Зачем ты меня оставил?» – но не со скорбью, отмечал очевидец, а с грустью. Ближе к полуночи прошептал: «Прости им. Всем им прости». Говорил он это все по-японски. Это были не единственные его слова, но все, которые смог разобрать бывший рядом с ним человек. Пополуночи Фудзиюки сказал: «Любите…» – а перед рассветом: «Ну, наконец-то…»
Умер Фудзиюки Токицукадзэ около двух часов следующего дня.
* * *
Фудзиюки шел на смерть лишь для того, чтобы Ощепков получил свой пояс. И для того, чтобы он стал Спиридонову другом, соратником, товарищем. А Ощепков с его идеализмом предал его идею. Так думал Спиридонов.
Какую страшную власть имеет над человеком гнев! Он превращает разумное существо в настоящее чудовище. Под влиянием гнева мы готовы на все, лишь бы сделать больно тому, на кого он направлен. Солгать – запросто; разгласить чужую тайну – пожалуйста! Лишь бы объект нашей ненависти испытал как можно более сильную боль.
Кто же мы, если так поступаем? Достойны ли мы того, чтобы называться людьми? Есть ли на свете мыло, которое может отмыть от такой грязи, которой мы добровольно вымазываемся, поливая грязью другого?
– Не говори мне об Учителе, – сказал Спиридонов. – Не тебе о нем говорить. Без него ты никогда не стал бы дзюудоку. Он заплатил за это слишком большую цену.
– Я знаю, – покорно ответил Ощепков. – Я очень обязан ему. И тебе, Витя, очень обязан. Вы сделали меня тем, кем я стал. Так зачем же ты мне мешаешь? Почему все время останавливаешь?
– Потому что ты сам того захотел! – вспылил Спиридонов. – Надо было тебе раздавать дар кому попало?
– А для чего он тогда нужен? Ведь и Фудзиюки, по твоим словам, раздавал свой дар. Если бы он думал, как ты – ни ты, ни я здесь бы не стояли… – Лицо Ощепкова порозовело.
– Фудзиюки не давал свои знания кому попало! – повторил Спиридонов.
– Да-да, только русскому пленному и русскому же беспризорнику, сыну каторжницы, – ответил Ощепков с улыбкой. – Витя, с точки зрения его круга мы были самыми настоящими отбросами – гайцзын, бака и шийо кинши.
На миг Спиридонов понял, что в словах Ощепкова есть смысл. Но гнев владел им, и это понимание было слишком слабым средством, чтобы его погасить.
– Раздавая дар, ты его разбазариваешь! – почти выкрикнул он.
– Раздавая дар, я его приумножаю, – спокойно возразил Ощепков. – Хочешь, покажу?
И он кивнул на татами. Спиридонову не надо было ничего объяснять, он присел и стал расшнуровывать ботинки.
Белый квадрат решит их спор. Любой спор дзюудоку можно решить только там, в их мире. В мире, который по-прежнему, несмотря ни на что, принадлежал и ему, и Ощепкову.
Это было правильно.
* * *
В дзюудо все решает не сила. И не умение. Конечно, более умелый боец победит менее обученного, но не обязательно будет так. Как ни странно, в дзюудо побеждает тот, кто имеет больше прав на победу.
Их силы были равны. Их знания, их умения, их навыки были равны. Равными были их воля к победе и преданность «мягкому пути». Должно было произойти еще что-то, чтобы нарушить это равновесие, чтобы один из них оказался на татами, доказав другому его правоту.
Это случилось к исходу сороковой минуты противоборства, за которым с замиранием сердца следил весь зал, куда, кажется, набилась вся школа – и курсанты, и преподаватели. Оторваться от происходящего было невозможно. Этот поединок был сагой о дзюудзюцу, балладой о борьбе, гимном самообороне. Симфонией противостояния.
И вот в этой симфонии наступило крещендо. От подсечки Ощепков кувыркнулся, упав на одно колено, и, прежде чем успел выпрямиться, оказался в болевом захвате. Уммэй-джимэ, захват судьбы. Спиридонов, пусть поздно, но вспомнил, чем закончился подобный сценарий без малого двадцать лет тому назад в Кодокане. Он даже почти успел принять меры. Почти.
Увы – его меры сработали против него же. Он сильно сопротивлялся, и оттого бросок оказался еще опаснее. Удар был почти таким же сильным, как после знаменитого броска Фудзиюки, но с тою лишь разницей, что Спиридонов был к нему готов. Превозмогая боль в ребрах, спине и голове, он перевернулся на бок, чтобы, оттолкнувшись от татами, вскочить на ноги. Сознание мутилось; с запозданием, но он понял, что может сам оказаться в уммэй-джимэ. И очень удивился, когда понял, что этого не произошло.
Он посмотрел на противника. Таким он Ощепкова еще не видел. Кожа его посерела, глаза словно потухли, губы же, наоборот, потемнели. С ним было что-то не так.
– Вася, что с тобой? – бросился он к Ощепкову. Это могла быть и уловка, его можно сейчас взять врасплох, но он не думал об этом, кожей ощущая: что-то не так. И черт с ним, если это уловка. Пес с ним, если в результате он окажется на татами.
Он едва успел подхватить Васю под руки. Бережно опустил на ковер и заорал не своим голосом:
– Доктора! Что вылупились, как бараны, врача, скорее!!!
Глава 12
… не бо врагом твоим тайну повем[52]
1936
У каждого человека есть тайны.
Такие, которыми не поделишься даже с самым близким человеком. Не потому, что не доверяешь ему, а совсем по другим причинам.
Хрупкая девушка, кутаясь в не по росту большую для нее плащ-накидку армейского образца, шла по улице. Был вечер. Бушевала гроза, молнии прорезали ночное небо, гром грохотал над головой, дождь лился с неба тяжелыми холодными каплями.
Девушка шла и едва не теряла от страха сознание. Она страшилась ночной темени, грозы и всполохов молний. Страшилась не просто так. Когда-то вот в такую же темную грозовую ночь в их избу ворвались вооруженные люди – стояла изба на отшибе в селе под Пензой.
Тогда девочке было тринадцать. Она была так напугана, что не понимала, о чем говорят ворвавшиеся к ним люди. Лишь годы спустя, вспоминая ту ночь, она поняла, что то был отряд продразверстки. Дом красивой вдовы сначала не привлекал их внимания. Ну какой у вдовы достаток? Но потом одна добрая душа шепнула, что вдова-то замужем за пусть и небогатым, однако купцом. Комиссар успел хорошенько угоститься у все той же «доброй души», сильно желавшей избежать раскулачивания. Вдову комиссар заприметил днем, прикинул и с «маузером» в руках и двумя такими же веселыми товарищами решил нагрянуть к ней в гости.
Тайник с двумя мешками муки, все их богатство, нашли почти сразу. Сокрытие хлеба – преступление перед советской властью. Но можно все решить полюбовно, намекнул комиссар, прикладываясь к бутылке. Сначала девочка не поняла, почему мать отказалась от такого щедрого предложения. Поняла много позже.
Не могла ее мать переступить память сгинувшего в пламени Империалистической войны мужа. Последние письма от него приходили из крепости Осовец. Потом Осовец пал, и письма приходить перестали. Потом матери сообщили, что он пропал без вести, вероятно, погиб. А она ждала. Ждала и верила.
И не могла уступить пьяному, потерявшему всякое человеческое обличье, вчерашнему оборванцу с пистолетом немецкой системы. Но женщины слабые, во всяком случае, слаба была мать этой девочки.
Они надругались над ней, все втроем, заливая все алкоголем. Похоть переросла в бешенство, и до сих пор, когда на улице гремит гроза, девочка закрывает глаза и видит, что они сделали с ее матерью, сестрами, даже братьями. Что едва не сделали с ней самой.
Она вырвалась, прокусив руку одному из державших ее солдат. Тот от неожиданности неловко извернулся, да так удачно, что пырнул штыком своего напарника в подбородок. Кровь плеснула на лицо девочки, на черные как смола волосы, но она не обращала на это внимания, стремясь вон из ада, бывшего ее домом. Раненый солдат выронил винтовку, от удара она выстрелила. Комиссар с перепугу начал палить по сторонам, но девочка была уже в темных сенях, а через миг – на улице, под колкими струями дождя, стегавшими ее через сорочку…
Волосы, куда брызнула кровь одного из насильников, поседели, и с тех пор девочка прятала седую прядь под волной других, черных. Как она выжила, как не сгинула в безумном мире, она и сама не знала. Но выжила и, добравшись до Москвы, поступила в школу РККМ.