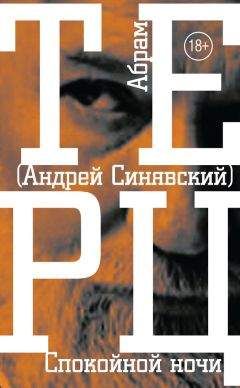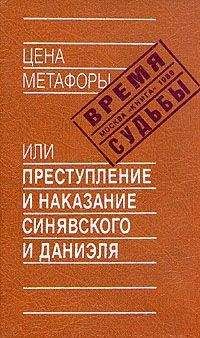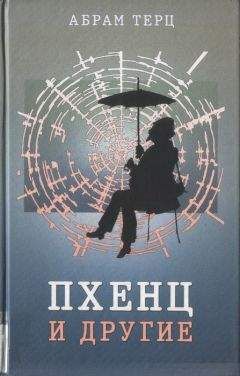– Попался?! – вскричала она и села на кровати, как ведьма, потерявшая страх. – Не пущу!.. Не отдам!..
И снова села на кровати. Ей вспомнилось, как попал опер в бур. Еще на Игарке. Нет, в Тайшете. Зашел постращать и – в капкане. Как приставили к ребрам самодельные ножи, обмочился, умоляет, пукая с перепуга, да я и пальцем впредь, у меня дети малолетние, детей пожалейте. И выйдя, под честное слово коммуниста и офицера, заливал бур из брандспойта: я из вас, педерастов, живой каток устрою!..
– Но ты же как будто христианка? – Мнилось, Гуталинщик снисходительно усмехнулся. – Куда ни крути, тебе по закону положено…
Есть такой хороший способ убивать: по Евангелию. Лично я узнал его сравнительно недавно. Бей и приговаривай: «А ты должен прощать». И пощечину ему! пощечину! Но не забудьте приперчивать: «подставь левую, а теперь правую…» И бей его спокойно, сколько душа просит. А начнет возражать, огрызаться – напомни заповедь. Не по-христиански вы себя ведете. Безнравственно. А еще писатель. Смотрите-ка – он недоволен? Выродок! Бей его, нигилиста! Сапогами. Мы тебя научим, как свободу любить. Любить надо врагов. Читал?.. А когда унесут, разведите руками. Вот, мол, чего добивался, то и получил по заслугам – неуч, невежа, человеконенавистник! Учитесь прощать.
Алла колебалась.
– Но ведь ты же православная? – продолжал вкрадчиво Сталин. – Давай рассуждать здраво, по-марксистски. Где у тебя логика? И церковью предписано… Кто не грешен?
Знать, обучался в той самой Семинарии и теперь, по азам, припирал, окаянный. Подожди еще, и он бы заголосил диким Архимандритом: «Повинуйся, грешница, распростертая во прахе! Отпусти долги Сталину и присным его!..»
Она обвела глазами как будто нежилую и бесполезную уже избу. Светать и не думало. Север. Но огонек в углу и слюдяной снег за окном слабенько поблескивали. Где-то пальнули, должно быть, из ракетницы. Метнулись тени, снег зазеленел. И погасло. И не ему, Душегубу, а самой себе Алла объявила судьбу:
– Прощать за других, за всех зэков? – такого права мне Господь не давал. Да и люди не простили бы. Ну а что мне причитается с тебя, все, что мне принес, одной мне, – бери. Отпускаю…
На нее, что называется, нашел стих. И, сидя на топчане, она прорекла, уставив мраморный палец в ту еще лесотундру:
– А теперь – обойди всех! По одному, по очереди – кому ты должен. Живых и мертвых. И пусть тебя каждый, отдельно, простит. Вымаливай именем Господа нашего…
И его разом не стало. Она не успела даже Имени произнести. Над крышей что-то ухнуло и забурлило. Как если бы пронесся, удаляясь, какой-то разгневанный смерч. Да через секунду, внезапно, заскребся сверчок под печкой и затикали по-мирному в доме, сами собою, ходики.
Что произошло? Содрогнулся ли скованный Дух во глубине своей мерзлоты перед тяжестью задачи, возлагаемой Перстом? Обойти всех по отдельности – обездоленных и загубленных Сталиным – это, знаете ли, работа. Вечности не хватит. А может, и малая щепочка, подаренная ему, в отпущение, была в успех и на пользу? Куда, в какие дебри, ушел он, выходец тьмы, добиваться реабилитации?..
Одно известно. Изба мгновенно опустела. И всю останнюю ночь на то памятное 5 марта Алла не сомкнула глаз. Не могла.
Она лежала и думала, закинув руки на затылок. О чем? Уверяю вас, у нее и не мелькнуло, что она выдержала экзамен на праведницу. Она сомневалась. И в том, что выпустила волка из зубов. Нет чтобы впиться в мертвую глотку и сгореть в этом столбе. И в собственных помыслах. В том, что покривила душой, сказав, будто в этой жизни ей нечего уже терять. Неправда! неправда! Все мы за что-нибудь держимся. И у нее, грешной, оставался в заложниках муж, за которого она втайне дрожала. Последнее достояние. Они познакомились в лагере, обвенчались в ссылке и вместе укрывались теперь от нового ареста на Воркутинском подворье. Инженер, он работал тогда диспетчером в ночную смену, а придет ли утром домой – кто может поручиться? И если уж по совести – не из-за того ли она отпустила грехи главному своему Должнику? Нет, не из святых предписаний – из боязни за мужа, который еще не вернулся с дежурства? У всякого человека можно еще что-то отнять…
В этом смутном размышлении и застал ее Иосиф Аронович.
– Ты что – все еще лежишь? – удивился он, растирая узловатые пальцы. – Ну и погодка! А пока ты спала, Аленька, – только что объявили – наш Усатый откинул-таки хвост! Как это тебе нравится?..
Поднялась, в длинной ночной рубашке. Зевнула.
– Да-а. Я знаю. Только, Иосиф, это не сегодня ночью. Может, вчера. Или третьего дня.
И, ничего не объясняя, показала круг на полу, возле топчана, метр, наверное, в диаметре, словно высеченный какой-то зажигательной иглой. Что-то вроде – как рисуют птицы. Или муравьи. Точечками. Ровно очерченная, выгравированная по некрашеному полу – колонна, полоска. Подножие. Цоколь. Там – где стоял.
Причесалась. Затопила печь. Не спеша, кряхтя, вздула самовар. И вдруг, как бывает у женщин:
– Слетай, милый, за бутылкой. Магазин-то открыт? Все же этакий день требуется отметить!..
«… И я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало».
Маловеры полагают, будто смешной концовкой сказка расписывается в собственной беспомощности. В обмане и краснобайстве. Мол, все это вранье. Текло-текло и в рот ни капли. Нет, я думаю, причина иная. Сказочные заставки гласят: вход закрыт непосвященным. Кто посмеет возвестить, что пировал с богами? Замок на уста. И вместе уверение: по бороде-то текло, а? А что в рот не попало, мил-человек, – уймись. Вход закрыт непосвященным. И не старайся – не пролезешь.
Сказка только касается, мажет по губам – реальностью. И переходит – продолжение следует – к другой, столь же обнадеживающей и ускользающей от нас. И в этом обтекании – по усам и бороде – и прелесть ее, и хитрость. Заманивает. Увиливает. Лисичка-сестричка. Кому она сестричка? Медведю? Волку? Да нет – сказке.
Не побоюсь сказать: сказка любит Бога и потому великодушна. И потому она так реальна, что и не нужно ей ничего другого, как быть собою. Никуда не ведет, ничего не добивается. Она кругла и совершенна, насколько это, конечно, возможно, – по образу и подобию…
Урвать крохи, сметенные историей со стола сказки, – забота и отрада писателя. В противном случае – о чем писать? И зачем?..
* * *
В то утро, 5 марта, я проснулся от плача матери. – Что еще случилось? – вскочил. – Говори, говори скорее! – Напяливаю носки, брюки.
– Сталин умер. Передавали по радио.
Я так и сел. Наконец-то!.. Едва не брякнул: «Да радоваться надо, а не плакать, мама!..» И прикусил язык. Нельзя обижать. Где-то сама она, я подозреваю, догадывалась, что не такая уж это для всех нас потеря. Трагедия. Отец – на поселении. Еле держимся. Но скупо роняла слезы. Сталин – все-таки…
Во всем теле – в ногах, в локтях – болеро. Путаюсь в брюках, а они говорят, выплясывая: «Сталин-то – а?..» Застегиваюсь на все пуговицы. Затягиваю ремень до отказа: «Сталин умер!» Не помогает. В носках я вообще застрял. «Не теряйся, – подсказывают, – не торопись, старик. Веди себя скромнее. Сталин – тю-тю… Не волнуйся». Особенные затруднения возникли у меня с башмаками. С ними вообще, пока шнуровал, вышла неувязка. «Ну куда ты не туда тыкаешь?! – сипят. – Да не дрожи так противно! Шнурок, шнурок забыл, разиня! Вечно тебе напоминать?!.» «Ура-а! – провозглашает рубашка. – Сталин умер! Ты что – оглох?..» Наконец оделся.
Между тем нельзя сказать, чтобы я ненавидел Сталина. Давно был равнодушен. Опытен уже. Осторожен. Стена. А как еще к нему относиться? Старый волк? Оборотень? Дракон? Интерес возбуждал не Сталин, собственно, а его последствия. В какой еще новый кошмар ввергнется страна? От него можно ждать одного – смерти. Своей. Всеобщей. Тюрьмы. Чумы. Войны. И вот – отложено…
Звонок. Три звонка – к нам. За дверью друг сердца. Ни слова не говоря, с глаз соседей, ключ в кармане, веду в подвал. Там не подсмотрят. Запираюсь на два оборота. Стоим, сияя очами. Молча обнялись. Улыбаемся. Ну просто, не поверите, Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Втихаря. Тоже мне заговорщики. Перекинуться счастливой улыбкой, когда все плачут. Праздник? Маскарад? Почеломкались, и он ушел поскорее, так же молча. До вечера!
Куда теперь? Разумеется, в Ленинку. Там у меня, на абонементе, Сказания иностранцев о Смутном времени, в пяти томах. Издание чудное, редкое, начала прошлого века, Карамзин бы позавидовал. И все эти тревожные дни, пока Сталин умирал, начиная с торжественного правительственного сообщения о серьезной его болезни, под обтекаемый бюллетень и лирическую, грустную музыку, которую играли по радио, я с утра пораньше убегал в библиотеку. Нет, признаться, не из усердия к работе, которую по долгу службы вменялось мне мусолить, но ради созерцания чистых исторических далей, ничего не имеющих общего ни с поприщем моим, ни с современным положением.
У каждого из нас появляется иногда эта потребность в шалаше, в убежище, подальше от проезжего тракта. Теперь на время мне раскинула гостеприимно шатры эпоха Феодора, Годунова и загадочного царя-самозванца. Какие вышивки! Какая игра ума, вплетенная в развитие жизни, позволяющая строить догадки, что история, быть может, художественное полотно, расшитое драгоценным узором!.. Кто ткал его? Кто рассадил цветы?..