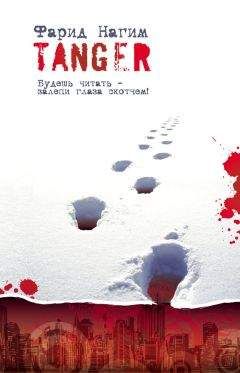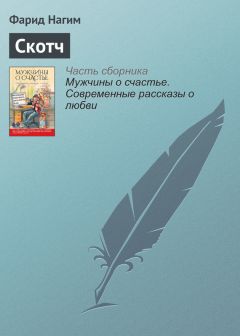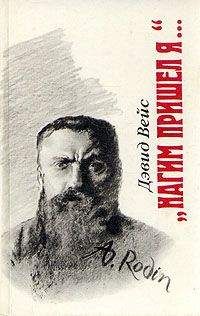Ознакомительная версия.
– А ты сама, где работаешь?
– Я в газете работала, где мама работает, там у меня что-то не получилось. На радио опросы делала, тоже им что-то не понравилось. Потом на телевидении, на РТР.
– Та же фигня, да?
– Нет, но там у них интриги… сейчас, пока не работаю нигде.
Она была абсолютно беззлобный человек и везде ходила с мамой, будто замерла в своем детстве. Спешила за ней следом, если вдруг отставала.
– А вы чего, развелись с Аселью?
– Ага, точно.
– А чего?
– Просто я нехороший человек.
– Да, она мне звонила недавно, сказала, что ты мудак конкретный.
– Может, она не меня имела в виду?
– Тебя. Она мне не нравится, самая воображала была на нашем курсе.
Казалось, что если раздеться донага, то не почувствуешь холода. Так все мягко и глухо вокруг, что неслышно шагов, ничего не слышно, и уютно в одежде, будто ты пушистый. Мир замер в снежном гипнозе, и если сделать еще шаг, то очнешься в своей кровати и поймешь, все это приснилось. Можно было сойти с ума от этих сугробов, составленных из мириады легких звездочек, раздувающихся от движения ног, и блистающих мельчайшими, плоскими гранями; от тонко искрящегося, словно обман зрения, ночного воздуха. И потому особенно странным казалось, что я иду куда-то с Глашей, с которой у меня никогда ничего не будет и не может быть, с чужим для меня абсолютно человеком, с чужими мыслями и желаниями. Странно поражала эта не сочетаемость красоты и гармонии мира с нашей парой. Это было преступление, как антилопа с отрубленной головой, как выкидыш. В пустоте мы дошли до моста у кладбища, постояли в глухом вакууме, по отдельности оглушенные красотой мира, и пошли назад. Я проводил ее к даче отчима. Блестят глаза, блестят капельки на верхней губе. Она ждала, что я буду с ней что-то делать. Просто, на всякий случай, нагло смеясь над самим собой, поцеловал ее. Это были не мои губы. И мне было абсолютно все равно, что они чужие, и что мне их не дают, и озабоченно уже что-то обдумывают в темноте маленькой черепной коробки. Вот только жалко, что такая невероятная красота вокруг. Почему так всегда? Что за насмешка? Когда я шел назад, снова надломилась эта ветвь, а потом одна из биллиона снежных пылинок с оглушительным треском обрушила на землю эту махину, полился следом снежный водопад.
Сквозь оснеженные ветви ярко, сочно и глубоко горят окна. В свете фонаря над входом видна открытая дверь, Серафимыч такой смешной в этой своей высокой ондатровой шапке, в куртке, распахнутой на груди, как пьяный деревенский гармонист. Сейчас я его заборю.
– Ты где был?! – бросился он ко мне. – Где ты был, бля?! – с невероятной злобой крикнул он и вдруг сильно рванул меня за воротник, будто желая ударить. – Я искать тебя бегал, ёпт таю мать!
– Ничего себе!
– Что, что?! – его лицо замерло в пьяной надменности, он соображал и вдруг понял, что сделал что-то не то, а все еще держал меня за воротник, и будто уже хотел погладить.
– Руки убери. Убери руки! – крикнул я и вырвался.
– Что, что?
– Вот этого я и боялся больше всего! – не раздеваясь, прошел на кухню.
– Чего, Анвар? Чего? – вбежал он следом.
– Теперь понятно, почему гомики убивают друг друга, как убили Пазолини.
– Ты что, ты что, Анвар? – задохнулся он. – Это не так, не… зачем…
– Не смей меня никогда хватать! – я ушел к окну. – Ты и так уже один раз дернул меня в поезде за руку.
– Прости, прости… я боялся, что ты упадешь!
– И не трогай мою мать! – я ушел в угол, к шкафу.
– Прости! Прости! – Он снова подошел ко мне. – Прости! Прости, Анвар! Я не больно? Я же не сделал тебе больно?! Нет? Прости!
И казалось, что он задохнется, если я сейчас же не скажу, что прощаю его.
– Прости меня, – умолял он с высоты своего маленького роста и вдруг закашлялся. – Ведь тебя бил отец! Ая грубиян, у меня же не было воспитания. Боже, боже, прости меня… Поешь кА-атлеты, я их… Боже, что я наделал?! Прости… Ты же рассказывал, что тебя бил отец… Я больше не буду, не буду материться, я не контролирую себя, это воспитание, да, да, я грубо ругаюсь, о, боже, но я даже не слышу, я ведь на стройке работал.
– Что, неужели мне нельзя сходить на станцию и купить сигареты? – обиженно сказал я.
А он корчился и здоровой рукой сжимал свою иссохшую правую руку мальчика.
Ночью он тихо кашлял, то есть плакал, ему физически было больно.
– Завтра в город пойду, – спокойно сказал я. – Хоть на молодых людей посмотреть.
Жестко, резко сокращались брюшные мышцы, сгибая и дергая его маленькое тельце, как будто он смеялся.
– Ну наконец-то приехал!
– Что, долго, Надь?
– Не очень.
Постель в большой комнате не застелена, и было видно, что она спит с дочерью.
– А у меня теперь таджики живут. Снимают ту комнату. Они урюком торгуют на рынке, – рассказывала она, блестя глазами, переводя дыхание и волнуясь всем телом. – Они по-русски так хорошо говорят. Чуть-чуть только акценту них… Застелю сейчас. Скоро дочка из школы придет, познакомишься…
В комнате холодно. Серый и ясный свет из окна, словно протертый этиловым спиртом. И в этом холодном свете вывернулся передо мной своей убогой изнанкой письменный стол для школьника, вылезли глупые внутренности постели, стул выказал свою недолговечную жизнь, раскрыл свою бессмысленную суть пыльный палас на полу. В этом безжалостном свете ненужным и мимолетным было мое голое тело, и бессмысленно молодым.
Три алкоголика пили на детской площадке.
Отогревал холодные пальцы, сжимая свои яйца. Повернул Надю спиной, чтоб не видеть в этом свете ее глаз. И сразу сильно сжал ее бока, чтобы за этой болью она уже не почувствовала холод моих рук. Странно податливым, автоматически знающим все движения, послушно быстрым было ее тело. Она сидела на коленях на краю кровати, пригнулась, удивляясь, прислушиваясь к этой новой позе и радуясь, что она хотела делать с утра совсем другое, а вот что теперь с нею будут делать.
К алкоголикам боком подходила бомжиха. Боится, что они ее прогонят. Прижимался, перекатывая, ломая член об ее ягодицы, но неожиданно он отвалился в нее и отдельно от меня чувствовал простуженный жар и мягкую шершавость слизистых стенок. Бессмысленно и неудовлетворенно, как карандаш точить в точилке. И наверное, от этого зимнего света сразу же ноющее и холодное кипение у самого корня. Странно, я же выпил. Лег на жесткий палас, она села на корточки над ним. Она уже привыкла к нему и толкла им сладость внутри себя, взбивала оргазм, резко, хозяйственно и привычно. Уже трудно было сдерживать бульки и пузырьки. Я и сам постучался к ней, ударился пару раз лобиком в ее створки. Дотянулся до ее сосков, один выскользнул, я его снова сжал. Так-так – ножка серванта, детский мяч и серпантин под ним, белый потолок, люстра, пол-лица Нади. Она почувствовала ту мою резкость, вздрогнула, совсем не ожидала, забылась… и заспешила, выронила, снова заправила, насела и уже совсем вялым им что-то раздавила в себе, растеклась, орошая меня всего всем своим телом.
Интересно, налили они бомжихе или нет?
Пробило мой насморочный нос, и согрелись ступни.
Минут через десять нас снова вставили в розетку. Она показывала альбом со своими фотографиями в молодости, потом покормила меня. Я звонил с кухни.
– О-о-о, ка-ляй-ка ма-ляй-ка, о, каляйка маляу, – запел я и засмеялся. – Привет, неудачник!.. Как с работой?.. Ясно, ясно… Как там Анатоль, в хор еще не устроился?
Она стояла у раковины и внимательно смотрела на меня.
– Димка, когда же мы пойдем в ресторан «Русский царь»?! – снова засмеялся я.
Потом я звонил Гарнику и тоже пел и спрашивал о ресторане «Русский царь», и смеялся.
– У тебя такой смех отчаявшегося человека, – вдруг сказала Надя.
– Да? Да, Надя, я и сам чувствую.
– Подожди, не уходи, сейчас дочка придет, сфотографирует нас.
– А она у тебя кто по гороскопу?
– Водолейка моя.
– Да, я же спрашивал.
– Не уходи, уже скоро…
Я, конечно, не стал ждать ее дочь.
– А эти таджики не пристают к тебе? – спросил я с насмешливой строгостью. – Что вы тут делаете ночами?!
А она испугалась и посмотрела на меня испуганным и таким мягким взглядом, что у меня сжалось сердце.
По заснеженному городу доехал до Гарника. У них ремонт. Эта злосчастная гипсокартонная стенка, разделившая однокомнатную квартиру на две конурки. Женька, замерший, задумавшийся и широко улыбнувшийся мне из своей кроватки. Так хотелось рассказать им что-то страстное, трагичное или смешное, но досадная пустота в душе, кислые слюни и никакой художественности.
– О-о, кал калай, агатай? – Гарник лежал в махровом халате поверх одежды на раскладушке в кухне.
– Жаксы, жаксы, Гарник.
– Жок, жаксы имес, мен же блем, бала! Негатив есть в твоем поведении, мен же блем… Лучше бы ты слоганы мне придумывал.
Как всегда приглашал работать в свое креативное агентство, убеждал меня. «Кретинное агентство», – думал я.
Ознакомительная версия.