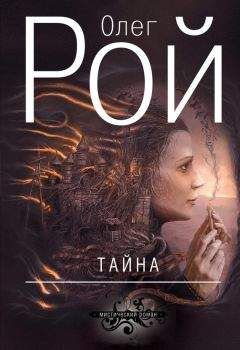Петр горько усмехнулся, как давно это было, совсем в другой жизни. В той жизни он, наверно, так бы и сделал. А в этой надо терпеть и жить. Глядя на маленькую Олю, он твердо понял, что должен жить ради ребенка, ведь в этой крошке частичка его любимой Ольги. Надо вырастить ее… Надо набраться терпения и опять, и опять надеяться и ждать…
Собрав нехитрые пожитки и взяв дочку, он уехал на Дальний Восток. Это самый настоящий край земли. Петр надеялся, что хоть там он как-то сможет избавиться от давящей тени прошлого, да и про него забудут. А то ведь, не ровен час, – загребут в лагеря, даром что фронтовик, инвалид и единственный кормилец ребенка. Времена сейчас такие, что никого не жалеют. Совсем озверели люди…
А рабочие руки всегда нужны, и хоть у него и нет кисти – но зато есть сила и старание, есть то, ради чего надо жить.
Они поселились под Хабаровском, в селе Петровское. Хоть война и не коснулась этой деревни – все же она была расположена далеко от линии боевых действий, но многие мужики из нее ушли на фронт, да так и не вернулись. Поэтому сильного пола не хватало – в основном женщины, дети малые, старики да больные. И дел, соответственно, непочатый край – начать и кончить, как говорится.
А Петр и сам был рад работать как запойный и не думать ни о чем. Когда делом занят, то некогда думать-горевать.
Вскоре правление колхоза выделило ему дом на отшибе, пустовавший уже лет десять. Всех его бывших обитателей разбросало по миру, кто переехал, кто на войну ушел, да не вернулся, а кто и помер.
Когда Оле исполнилось семь лет, Петр устроил ее в местную школу. На вопрос о матери девочки он сказал, что она погибла во время бомбежки, а документы утеряны, и восстановить их нет никакой возможности: деревни и ее жителей больше не существует. Хорошо хоть, дочка чудом уцелела – была у родственников в дальней деревне. Такими историями в то время трудно было удивить кого-либо. Петру посочувствовали и больше с расспросами не приставали. А Оле, когда она подросла, Петр сказал, что мама жива. Просто война их разбросала. Но рано или поздно, они найдут друг друга. У девочки счастливо вспыхнули глаза.
– Я ее помню, – прошептала она, а Петя грустно усмехнулся про себя, вряд ли девочка могла помнить мать, слишком мала была. Но, видно, необоримое желание материнской ласки заставляло ее видеть, хоть и смутно, облик мамы.
Лишний раз отца она не спрашивала, но в душе истово ждала маму.
Кольцо Петр носил на правой руке – как женатый. Многие женщины в селе, оставшиеся без мужей, мечтали видеть его своим мужем – пусть и без руки, зато мужик хоть куда. Но он и не смотрел ни на кого, вежливо здоровался – и только. Про него шептались: «Живет один мужик, бобылем, нехорошо. Жена женой, да где она? Все ж таки хоть бы бабу завел…»
Но Петр не обращал внимания на такие разговоры и еще усерднее работал, загонял себя, чтобы сил на воспоминания и сомнения не оставалось. Спина болела – не разгибал ее от зари до заката, пахал, сеял, строгал.
Из-за такого рвения его бригада числилась в хозяйстве лучшей.
Спустя пару лет начальство, видя, как он легко и с охотой работает, водку не пьет и не балуется, да и сам не разгильдяй, решило сделать его бригадиром. А через пять лет ему предложили стать председателем колхоза. Петр, после некоторых колебаний, согласился.
Лариса, пригожая волоокая вдова, давно зазывно поглядывала на него. Да и он начал заходить к ней в гости – чаю попить да поговорить о житье-бытье. Душа его начинала оттаивать, в ней бродили какие-то смутные надежды на новую жизнь. Но вскоре все это прекратилось, он как-то разом очнулся…
– Здравствуй, Олюшка. – Петр вошел в хату и раскрыл объятия, чтобы подхватить дочурку на руки, как он обычно делал, но она не подошла, а продолжала сидеть, забившись в угол.
– Ты чего это? Аль обидел кто? – прямо спросил Петр. Он шагнул к ней и глянул через ее плечо.
Она рисовала – на картинке были изображены мужчина, женщина и ребенок – все трое стояли, взявшись за руки. У их ног сидела маленькая собачка.
– А это кто? – ткнул он пальцем в пса.
– Ты к Лариске ходил? – чужим голосом спросила Оля, не ответив на его вопрос.
– Ты кого это Лариской называешь? – вскинулся он на дочь. – Она тебе не подружка.
– Значит, верно, – вздохнула девочка.
– Нет, Оля, – тяжело вздохнул и Петр, – не к Лариске. Задержался после работы – Кузьмичу помогал лодку смолить. Ты пойми, не нужен мне никто. И соврал бы тебе, что, мол, не одиноко мне. Но и грустно, и одиноко, иногда хоть волком вой. Но не могу я, не лежит у меня к женщинам в селе душа. Хорошие они, работящие, замечательные, но не мои. Я свое сердце уже однажды отдал, и больше никому оно принадлежать не может. Или с ней, или ни с кем. Так и знай, и не сомневайся больше. Просто мама сейчас не может приехать к нам. Я тебе говорил, что судьба нас разлучила. Но она найдет нас. Она все видит, дар такой у нее…
Дочь мечтательно улыбнулась, а потом сказала:
– А к этой… ты больше не ходи. Мама вернется, ты верь. – Она нахмурилась, и ее отрешенное в этот миг лицо вдруг напомнило Петру лицо жены, когда она начинала видеть. Мурашки побежали у него по спине…
– Не буду, золотая, ты права, она обязательно вернется. – Он взял себя в руки и погладил Ольгу по голове. А потом неожиданно предложил: – А давай мы заведем собаку? Пускай живет, дом охраняет. Мы ее всему обучим. Это – пара пустяков…
– А я сама, сама буду за ней ухаживать, кормить и обучать! – в восторге закричала Оля.
В следующие выходные они отправились на рынок в соседний городок и купили лопоухого щенка, похожего на того, что нарисовала Оля.
Мужчина поставил старый истрепанный чемодан на землю и осмотрелся. Судя по описанию, больница находилась прямо напротив остановки, но его никто не встречал, как было обещано. Он немного подождал, потом легко подхватил свой нехитрый багаж и, ежась, словно от холода, хотя на улице было еще довольно тепло, прихрамывая, двинулся туда, где смутно желтело, скрытое за высокими деревьями, большое здание.
– А вот и вы! Серафим Иванович, если я не ошибаюсь? – лучезарно улыбаясь, засеменил ему навстречу юркий человечек, стоявший у входа и разговаривавший с другим – толстым и грузным.
«Он же меня ясно видел, но предпочитал не двигаться, пока я не подойду…» – механически отметил тот, кого назвали Серафимом Ивановичем.
Позже его уже не будет удивлять эта неспешность и некоторая философская невозмутимость здешнего больничного уклада. Весь распорядок дня, проведение больничных мероприятий, да и дух самого лечения располагал к этому. Выяснилось, что юркого человечка звали Тихон Алексеевич, он оказался заместителем главврача, то есть – прибывшего сюда Серафима Ивановича Волынского. Грузный флегматичный мужчина был больничным завхозом.
– Вы будете осматривать больницу? – заместитель неловко переминался с ноги на ногу. Прямо за ним стоял, не шевелясь, завхоз с какими-то сонными глазами – будто он только что проснулся и все еще очень хочет спать. Выражение лица у него было крайне безразличное, так что у нового главврача даже закрались сомнения – так ли ему на самом деле все равно, каким будет его будущий начальник? И решил – все равно; видимо, раз и навсегда заведенный порядок его жизни от этого не претерпит никаких изменений.
– А вас когда освободили-то? Недавно? – не удержался заместитель, заглядывая в глаза Серафиму Ивановичу.
– Недавно, – усмехнулся он, – освободили, выдали справку. Назначили главврачом вашей больницы, и я сразу отправился сюда. Даже к родным не заезжал.
– Ага, – растерянно кивнул заместитель, вдруг смутившись своего вопроса, – ну ничего, квартира у вас хорошая, не беспокойтесь. Городок наш тихий, спокойный, война его обошла, вам должно понравиться. Ну что, пойдемте, что ли?
Главврач кивнул, и все втроем они отправились обозревать хозяйство, которое переходило теперь под его начало.
Они шли длинными просторными коридорами, которые, несмотря на атмосферу самого места, не были особо мрачными. Тихон Алексеевич открывал двери палат. Больные вскидывались, как птицы на ветке, испуганно и виновато смотрели на вошедших.
– Наш новый главврач, профессор Серафим Иванович Волынский, – скороговоркой выпевал Тихон Алексеевич и захлопывал дверь.
– Среди больных особо буйных нет, все тихие, – объяснял он.
– Ну, а буйных вы небось по старинке успокаиваете? – прищурился Волынский.
– Ну да, а как же? – настороженно ответил Тихон Алексеевич.
– Нейролептики колете?
– Ну, как сказать… бывает, – замялся заместитель. – Сами понимаете, нам проблемы не нужны. У нас ведь и политические лежат, – понизил он голос до доверительных интонаций, – ну ведь вы и сами… того, ну, в курсе…
– Наслышан, – сдержанно ответил Волынский.
– А вот и ваш личный кабинет. – Тихон Алексеевич, желая побыстрее сменить скользкую тему, распахнул очередную дверь.