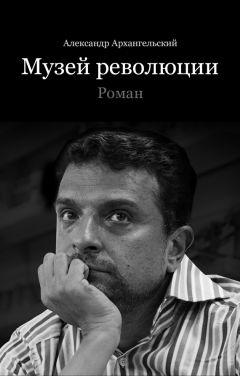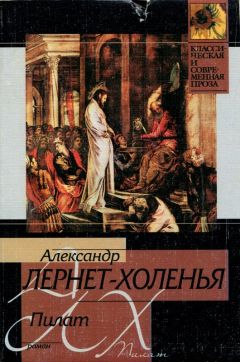Влада просмотрела сводки с фронта. С грустью поняла, что все-таки придется жертвовать особняком на Сивцевом: прежнего префекта судят, новый сватает кого-то из своих, прикормленных. Но зато все остальное – хорошо. В позапрошлом году, когда лопнул столичный пузырь и цены на московскую недвижимость упали втрое, Влада поручила Коле (разумеется, не поручила – попросила) набрать кредитов и начать осторожную скупку домов, маленькими порциями, в разных районах. Когда накопили приличный запас, тысяч пять разрозненных квартир, Коля убедил владельцев, что «Газбесту» нужно срочно покупать жилье: дно уже достигнуто, и дальше будет только рост. И «Газбест», как слон в посудной лавке, начал действовать обвально, грубо; цены тут же скорострельно полетели вверх. Влада с Колей выждали немного и стали незаметно продавать свои квартиры на растущем рынке.
Так легко, непринужденно, дела у них еще не шли; у Влады появилось ощущение, что они летят внутри потока, как детский змей, поймавший встречный ветер. Но человек устроен странным образом; решая предыдущую проблему, он тут же порождает новую. Куда перевкладывать деньги? Коля говорит, что надо выводить в Европу. Милый, милый взрослый мальчик. В Европу. Коля, ты про Южную Корею слышал? А про Арктику? А про Иран? А про Индию с Пакистаном? Ты понимаешь, что война – это не только командные пункты, численное превосходство, самолеты? Что это – страшная политика? А в политике, как в стратосфере, внезапно сходятся воздушные потоки, разрозненные облака слипаются в густые тучи, и без грозы уже обойдешься. Или, как говорил один из папиных начальников, не обойтицца. Так что деньги нужно прикопать в России. Пока, на какое-то время. Вопрос в одном – во что закапывать.
Поэтому последние полгода Влада набивалась с Колей на тусовки, глуповато, как блондинка, щебетала – дачтовыговоритебытьнеможет! – и заставляла грузных дядек снисходительно выкладывать секреты. Вызнавала мелкие подробности проектов: ойдаяжчегототутнепоняла. Дома холодно анализировала. Пока в конце концов не ухватила кончик нити. Бывший Колин сослуживец, начальник оборонного АХУ генерал Кобозев с пьяной удалью хвалился: дескать, выбил у Хозяина ярлык, буду, тксть, латифундистом. Ученое словцо латифундист он выговаривал с трудом, как шестиклассник. И сдабривал простонародным говорком.
– Владочка, ты представляешь, зайчик мой, как выглядят на наших картах земли? Не представляешь? Дай листочек-карандашик. Гляди. Вот город. За ним зонированная территория… ну это нам неважно, пропускаем… а за этой самой территорией обязательно какой-нибудь музей. – Кобозев говорил музэй. – А у всякого музэя, зайчик мой, имеется земля, в масштабах, ты не в состоянии представить, в каких. И если вывести по госрасценкам… можно, доложу тебе, такую латифундию оттяпать, что просто мама не горюй. И главное, сейчас никто военным не откажет; когда назревает войнушка, все наверху становятся такие, мать, сговорчивые, что ни попросишь – дадут.
– А чего же Колю не позвали? – ласково захлопала глазами Влада.
– Колю. А Коля твой, голуба, при своих делах. Он же нас по газу не пускает.
– А если пустит?
– Ну, позовет – тогда посмотрим. А что же наша дама будет пить?
Но Коля не хозяин «Газбеста»; он всего лишь ставит подписи на документах. Обычная работа отставного штабиста: продавать свои старые связи и за все отвечать головой. Получая приличные бонусы. Не менее, но и не более того. Поэтому пустить Кобозева не получилось.
И она продолжала метаться в поисках ответа на вопрос: куда? И тут, бывают же такие совпадения! – ей стал названивать, писать, надоедать нахальный тип, который оказался заместителем директора в Приютине. Том самом Приютине, где генерал планировал начать масштабное, но внезапно захлебнувшееся наступление.
Они шагали друг за другом в полной темноте. Павел замыкал колонну.
Петрович шел монументально, шлак под его подметками кряхтел; китайские шажочки Ройтмана были слишком легкими, щебенка кокетливо шорхала. Павел сам себе напоминал большого суетливого зверка, хрст-хрст-хрст, хрст-хрст-хрст. И дышали все они по-разному. Начальник охраны – ровно, с внутренней кузнечной тягой, Михаил Михалыч с астматическими посвистами. А Павел старался дышать незаметно, очень уж противен был мазутный привкус воздуха.
Внезапно послышался мягкий шлепок; их кормчий уткнулся в породу. Петрович изрыгнул гранатометный мат; болезненно вспыхнул фонарик. Перед ними был непроницаемый завал. Павел с Михаил Михалычем тоже включили фонарики и стали вращать головами; так в старых фильмах про войну изображают ночные атаки: тонкие лучи прожекторов пересекаются в опасном небе.
Петрович приподнял каску, чтобы вытереть с лысины пот, луч задергался, переместился в самый нижний угол.
– Оййа, – только и сказал Петрович.
В самом низу, у стены, из тяжелой темноты обвала выступала половинка человека. Как если бы крепкий мужчина в разношенных зимних ботинках встал на колени, сунул туловище в черную дыру и замер. Это был второй охранник, по приказу Ройтмана оставленный на входе.
– Коля! Как же так! Коля! Екарный ты бабай.
Петрович ринулся к телу: а вдруг?
– Отгребайте породу с боков, только осторожно, чтоб нас самих не завалило.
Они обмотали руки брезентом, и стали по-собачьи отсыпать породу. Было противно касаться безжизненной плоти; она проминалась, как резиновый шар, туго залитый водой. Живое тело так не поддается, в нем до самой последней секунды сохраняется энергия сопротивления, напряжение нервов и мышц…
– Михал Михалыч, вы снизу подгребайте, снизу, там, под брюхом, вооот, а то камни сверху осыпаются, мы так его никогда не отроем. А ты, историк, поддерживай под животом, чтобы пустота под ним образовалась, понял?
Понять-то он понял, но до чего же было тяжко и противно. Павел подполз под безвольно обвисшее тело, подставил плечо, как домкрат, и что-то мокрое, холодное стало впитываться в комбинезон, как в сухую кухонную губку; живот несчастного вдавился, из тела грубо вышли газы и смешались с серным духом подземелья. Наверное, охранник отшатнулся к стенке, тут его и сбило с ног еще одним ударом; он успел подумать: все, капец.
Какой ужасный и бесчеловечный запах – каменной пыли, серы, мочи.
Что?! Запах?! Этого не может быть. Это разыгравшееся воображение. От темноты, от ужаса, от ожидания толчков, обвала, смерти.
Но это было не воображение. Павел действительно слышал все запахи, ощущал их остро и болезненно, как порезанная кожа чувствует свежий йод. Грибной корзиной пахла сырость. Школьным кабинетом химии – моча, пот – летней душной электричкой. У Ройтмана были новые полусапожки, из них еще не выветрился сырный запах кожи. Петрович явно поливал себя с утра одеколоном.
Случилось что-то невозможное, невероятное. К нему вернулось обоняние. Как если бы из носа вынули затычки, плотно перекрученную вату, и от ароматов закружилась голова. Но вместе с обонянием пришли не розы и зефиры, а густая затхлость жизни; как же она отвратительно пахнет…
Немного разрыхлив породу, Ройтман с Петровичем стали вытягивать мертвое тело, как морковку из мокрой земли. Павел помогал плечом, упираясь коленями в землю.
Вытянули. Положили навзничь. Направили прямой, жестокий луч. Черное блестящее лицо было в нескольких местах продавлено, словно смятый шарик от пинг-понга. Кисло пахло металлом, как от перегретого токарного станка.
– Закрой ему глаза, – приказал Ройтман. – А то он как-то… смотрит.
И быстро-быстро засипел, мучительно выталкивая лишний воздух из груди.
Петрович нежно выключил фонарик Михаил Михалыча, Павлу указал на каску пальцем: выруби, давай поэкономим. Свой фонарик выключать не стал, нужно было наблюдать за Ройтманом, как бы с ним чего не приключилось. Михаил Михалыч пробовал присесть на корточки, ему тут же становилось хуже, он вставал, ходил туда-сюда, опять садился, вскакивал. И никак не мог продышаться. Он хватал губами новый воздух, а старый выдохнуть не получалось, и внутри него все свиристело, как если бы мешок набили стекловатой и снаружи присосались пылесосом.
В зыбком свете белого фонарика Ройтман был похож на сталагмит; он уперся головой в породу и толчками выдавливал воздух: хы… хы… хы.
– Миша, можно чем-нибудь помочь? – спросил перепуганный Павел.
Хотя, разумеется, знал, что – ничем.
– Ты от него отстань, историк. Как он тебе будет отвечать? Мог бы и сам сообразить.
– А ты бы мог сообразить не забывать лекарство для хозяина… если у него такое дело… или ты не обязан?
Вообще-то Павел просто огрызнулся, он не собирался унижать Петровича; но Петрович сразу сник и стал оправдываться, как подчиненный на летучке:
– Да взял я, взял, всю аптечку взял, как полагается, по списку. А рюкзачок оставил здесь, у Коли. Наверное, он там теперь… ну, за стеной.