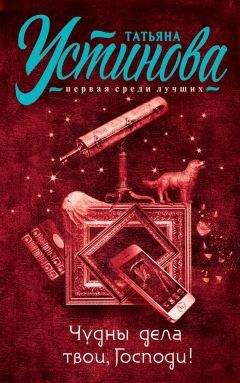Выпятив грудь искристую, скворец поет – тепла дождался. С места на место перескакивая, воробьи чирикают. Пчелы гудят – летают в воздухе шрапнелью. Поносят, – мама говорит. Папка говорит: дришшут. Ворона на столбе сидит – опустив вниз клюв, на Буску ругается – уже охрипла. Тот на нее внимания не обращает. Развалился на мураве, высунув язык, с открытыми глазами. На меня мигает веком.
– Лежи, – говорю.
Слушается.
Петух в ограде. Остарел за зиму. Но не потускнел и боевой дух не утратил: на меня смотрит – как через прицел. И не надеется пусть даже – не подставлюсь.
Забрался я на крышу дома, в свой штаб, после зимы еще не обустроенный. Рубаху сняв, позагорал. Ялань в бинокль поразглядывал – сомлела, тихая – как муравейник. Лучше Ялани места нет на свете, это ясно.
В Черкассах тоже хорошо. Но их отсюда не увидишь.
Почки на березе набухли. Зелень, стесненная, из них уже готова вырваться – выглядывает. Липкая. Смолистая – пахнет. Еще дня три тепла такого – и распустятся, и лес оглохнет.
Где-то за Межником, в той стороне, километров пять отсюда, не больше, дым клубится черно-желтый – трава сгорает прошлогодняя; и на тайгу огонь не перекинулся бы, страшное дело – верховой.
Был у нас вчера последний звонок. Утром. До обеда потолкались в интернате, сходили в школьную столовку, поели, потом собрались все, ребята и девчонки, пешком направились в Ялань. И как-то грустно. Еще экзамены, и школа в прошлом. Все вроде ждал, теперь тоскливо почему-то.
Спустился с крыши. Зашел в избу. Дома только мама.
– А где папка? – спрашиваю.
– Вышел, – говорит мама. Половики и коврики сворачивает с полу – хлопать на улице их будет, пока сухо.
Положил в сумку книжки.
– Поеду, – говорю.
– Куда? – спрашивает мама.
– На Кемь, готовиться к экзамену.
– А дома – чё?
– Дома – не то. Там, на природе, лучше, – говорю, – запоминается.
– Так хошь поешь.
– Я не хочу.
– Вот хорошо-то – экономия, – говорит мама. И говорит: – Землю под гряды мне вскопай, тогда поедешь. Тут, в огородчике. Угол хотя бы. Под редиску. За домом – рано – тень… там еще лед, земля не отошла. И чё на Кемь? Пошто? Читал бы дома. А не рыбачить ли надумал?
– Я же без удочки… Посмотришь, – говорю, – когда поеду.
– А тебе чё… На закидушки… Долго не будь. На солнце-то…
– Уж как получится.
– Смотри мне.
– Книг – сколько – видела?
– И все перечитать?!
– А как?
– Все, чё ли, враз?
– Ага.
– Беда, – тяжко вздыхая, говорит мама. – Так и без глаз останешься, испортишь себе зренне.
Открыл дверь, спрашиваю:
– А где лопата?
– Под навесом.
Из избы вышел. Взял лопату. Направился в огород-чик. Пчелы летают – не хочу, чтобы ужалила какая, они сейчас, без взятка-то, сердитые, еще поносят, – через большой огород, в котором только картошку, турнепс и капусту выращиваем, обошел пасеку. Папка в огороде. В красной, клетчатой рубахе навыпуск. В кепке-восьмиклинке. В калошах. Брюки заправлены в носки. Собрал он оставшуюся на поле, где находились привезенные из леса зароды, после зимы сенную труху в кучи – поджег. Густой дым, сизый – столбом рвется в небо. Стоит папка – оперся руками на вилы, на дым не смотрит, смотрит в землю. Думает о чем-то, наверное.
Через неделю-полторы, если дожди не разойдутся, и пахать уже надо будет. Об этом, может, он и думает. Не знаю.
Издали: тряпка – думаю, но нет:
Ерошка, как дохлый, словно его сюда забросил кто, лежит на залитом солнцем голубце погреба. «Кыс, кыс», – позвал. Не просыпается. Лапы у него грязные, длинная шерсть на нем скаталась, в репейниках и в опилках, щеп только нет да палок не торчит, – после мучительных и изматывающих все силы походов. Напугать его как-нибудь, что ли?.. Ладно, думаю, пусть дрыхнет.
Вступил в огородчик, где мама мелочь разную плюет и сеет – от морковки до укропа. Снял рубаху, начал вскапывать. Работа мне такая нравится. Было бы близко где, на археолога бы попытался поступить. Сначала в армию сходил бы.
Может, в Египет бы поехал… И тут, в Ялани, раскопал бы… Острог-то где-то находился… Скорей всего, что на яру. Музей в Ялани бы создал.
Рыжий в своем огороде – изгородь нас только разделяет. Тем же, чем и я, но у себя там занимается. В кирзовых сапогах – чтобы ступню не надавить. В темно-синих трико, сильно вытянутых на коленях, и обтягивающей тело футболке. На голове пилотка из газеты. Меня увидел и кричит:
– Черный, привет!
– Здоро́во, – отвечаю.
– Читать, – говорит, – взялся… «Войну и мир»… и не могу: глаза слипаются. Летом – вобшэ… Какие летом книги?!
– Еще не лето.
– Но про войну там интересно… Смоленск, Березина… Через страницу…
– Через десять.
– Ты чё?
– Проехали.
– Да тут осталось-то… три дня… Жара такая вон – как летом. Сходим, может, куда-нибудь, – предлагает, – камни на речке побросаем? Тебе там много? – спрашивает.
– Только начал.
– Я все почти… Зайдешь, когда закончишь?
– Нет, не зайду.
– А чё?
– Да так.
– К Таньке, наверное, намылился?! Червей полно… Ты собираешь?
– Собираю.
– А мне?..
– Ты тоже собирай.
– Если с собой возьмешь…
– А ты там нужен?
– Я Дуське «Мать» хотел отдать. Уж пролистал… и чё-то помню. Горький – какой-то горький… не люблю.
– Кого ты любишь?
– А?.. Тургенева… «Му-му».
– «Му-му»… Увидишь в школе Дуську, и отдашь.
– Ага! А тятя вдруг искурит!
– Спрячь от него!
– Какой ты, Черный, все же… задница!
Спиной ко мне повернулся – шея под пилоткой, как наш советский государственный флаг, красная, – с другой стороны копать под грядку взялся – нарочно. Закончит скоро. А сердиться на меня будет долго; час-то уж выдержит, пожалуй.
Про мотоцикл у него не спрашиваю, чтобы совсем не разозлить, а то до завтра будет дуться.
Купили ему. Еще осенью. «Восход». Катался он на Первомай, бражки выпив, перед Ленкой Елистратовой, в нее влюблен уже без памяти, до смерти, выделывался и в кедр въехал. Сам ничего, и ни царапины – пьяным и дуракам везет, как говорится, – а мотоцикл надо восстанавливать. Вилку переднюю согнул, да так, что колесо под двигатель уехало. Один делать не хочет. Мной, как помощником, пренебрегает. Просит Маузера – хоть и фашиста, но мастера на все руки… в отличие от некоторых. А тот сказал: «После экзаменов» – и как отрезал. Уговорить Маузера труднее, чем маузер. Это не я придумал. Рыжий. Обещал кто-то ему в Полоусно отдать вилку от старого, разобранного уже «Восхода». Да обещанного, как известно, три года ждут.
Словом, не ездит Рыжий на своем мотоцикле.
Наперебой щебечут птицы – холод был пока, так – намолчались. Пчелы гудят – без дела насиделись – словно пули, воздух решетят; встань на пути у них – прострелят. Небо ясное – лазурь; хоть бы где небольшой клочок от облачка – как будто выскоблено. А потому и солнце припекает беспрепятственно – и тень Ялани не коснется, и по полянам не скользнет.
И мне запеть вдруг захотелось – шквалом нахлынуло, обволокло так, что не всякий и сдержался бы. Но я справляюсь – на горло песне наступил – та и не пикнет. Папка решит, что я, душа моя, работы требует, и предоставит – дрова заставит перекладывать, иное что ли – дел полно. А это – в данный, во всяком случае, момент – не отвечает моим интересам, мало того – противоречит резко им.
Рыжий заголосил:
– А мо-оре, а мо-оре цалуитса с луно-ою!..
Ободзинский. Слов не расслышал бы и песню бы не распознал.
Крёсна, слышу, просит из ограды:
– Вовка, не вой – парунья сдохнет!.. Ух у ей нет идь – не заткнуть их!.. И у меня башка расколется!.. Как ирехонец.
Умолк, Магомаев. Слава Богу. Мир вытерпел – не треснул.
Вскопал я, что было задано мне, – взрыхлил весь угол – выполнил урок. На улицу, чтобы в огороде с папкой не столкнуться и не получить от него тут же внеочередное трудовое задание, из огородчика выбрался. И оттуда уже, воротами особо не брякая, – в ограду. Взял с крыльца сумку с книжками. Через плечо ее повесил. Вывел из гаража мотоцикл. С горы завел его, поехал.
– Я же не соврал маме, – вслух сам себя так убеждаю. – На Кемь отправился. В Черкассах Кемь ведь.
И согласился сам с собой, и мир во мне установился.
Дуся с Таней – те сразу же после звонка последнего уехали домой, в свою любимую деревню. Танина мать, тетя Надя, рано утром ездила зачем-то до переправы – кого-то, может, отвозила на «Урале» и забрала их на обратном пути. Не попрощались даже – не успели. Только записку Таня мне оставила:
«Целых четыре дня буду дома. Сначала отосплюсь, потом стану готовиться. Почти сто часов без тебя – невыносимо. Твоя глупая „зеленоокая Волчица“. Ее глаза за это время могут выцвести – она их выглядит – в какую сторону, ты знаешь. Дуська торопит, некогда писать».
Наизусть помню.