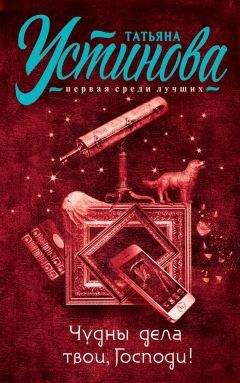– Иди, – говорит мне тетя Надя. – В доме. Только что с речки с ней вернулись… Полоскали. – И улыбается. Обычно.
Разулся я, чтобы не натоптать на нем, возле крыльца – крыльцо помытое, натертое с песком, – желтеет плахами и пахнет. Прошел темными, да после света яркого еще, сенями – и там пол влажный – подошвами ног чувствую, босой-то. Вступил в избу. Свежо. Настелены самотканные разноцветные дорожки и коврики. В красном углу иконы в браных полотенцах. Сияют медными и серебряными окладами. Лампадка теплится уютно и укромно.
Пахомий теплый, бокогрей, – вдруг вспомнил. – В Черкассах раньше на Пахомия гуляли. А в Полоусно – на Пантилимона… Еще гуляют и теперь. Как папка скажет: Не отвадить.
В Ялань съезжались все на Сретенне.
Музыка звучит. Песня. Поет Лили Иванова. Голос-то у нее, ого, какой – пронзительный и задушевный – проникновенный. Мне очень нравится. И Тане.
Ну, думаю.
Луна-та, луна-та…
И мы ее на танцах исполняем – эту песню. Только по-русски. Часто заказывают. Я пою. Ее поет и Ободзинский.
Прошел, как кот, тихонько по прихожей, затем – по горнице, к Таниной комнате приблизился, ступая осторожно.
Дверь открыта. Из-за косяка, чуть высунувшись, в комнату заглядываю.
Лежит Таня на кровати, навзничь. Читает книжку. Из-за которой мне лица ее не разглядеть. Но и она меня из-за нее не замечает.
Я так и думал: «Горе от ума».
Да-с, а теперь, в семнадцать лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно… Как Софья Павловна у вас похорошела!
В летнем желтом платье – с короткими рукавами и с отложным воротничком, – в котором я ее еще не видел. Вижу и сразу впечатляюсь. Волосы пегие, пшеничные с соломенными прядями, густо рассыпаны по голубой подушке. Ноги прикрыты белой газовой косынкой – под ней их можно распознать – распознаю: ступни – красивые, мне на них нравится смотреть, ну и конечно – их касаться; и взъем высокий и крутой, и и́спод тонкий. На стуле, рядом с кроватью, фаянсовая кружка, с нарисованным на ней подсолнухом. Знакомая. Я с ней ходила на покос… Края оббиты. С собой возьму, куда поеду. В кружке чайная серебряная ложка. И тут же вазочка с малиновым вареньем. Знаю, что любит. Больше, конечно, земляничное – и это мне уже известно, и это в жизнь мою вошло. Сам я к вареньям безразличный.
Встал я на четвереньки, словно диверсант, и так добрался до кровати. Не обнаруживаюсь тут же, ногтем по коврику скребу.
Затихла Таня – то листала.
Громче скребу.
Не шевелится.
Поднял голову и говорю:
– Привет, – только тогда уж рассмеялся.
– Ой! – говорит Таня, выронив из рук книжку. – Я уж хотела завизжать, так испугалась.
– Думала, мышь?
– Конечно, думала.
– А это – кот.
– Только не Васька.
– Не рада?
– Рада. И не чаяла.
– И не ждала?
– Ну, разве вечером… Пошла к бревну бы, как обычно… глядела б в сторону Ялани. Ждала, конечно.
– Возлелей, – говорю, – господин, моего ладу ко мне…
– …чтобы не слала, – продолжает Таня, – я к нему слёз на море рано.
– Вот я. Не шли. А что это за платье?
– Мама мне сшила. Осенью еще. А чё?
– Да так… Оно тебе к лицу.
Подсел рядом. Обнял, склонившись. Крепко. Словно не встретились, а расстаемся. И не на коротко, а навсегда. Как будто кто-то нас, помимо воли нашей, разлучает. Ну, смерть, к примеру.
Поцеловал. Долго. Но не по времени. А пока падал в головокружении – это бессрочно. Горячая. Как сдоба из печи или под солнцем целый день ходила, а то палило так, как нынче. Руки лишь у нее, на шее у меня, прохладные – от сквозняка, по комнате гуляющего вольно: шторка над печью – та колышется. Пальцами соскользнул с крутого взъема…
Под платьем – тело только – больше ничего, как очень важное – отметил.
– Соскучился, – говорю.
– Как? – спрашивает.
– Сильно, сильно, – не обманываю: сильно – и еще крепче прижимаю.
– Но я сильнее, – говорит.
И оба шепотом вдруг почему-то – тайна великая свершается – решил бы кто-то. Возможно, так оно и есть: никто не видит нас, никто не слышит и никогда никто об этом не узнает. Конечно – так. Про уши стен бы только помнить. Я начеку всегда, не забываю. Это в характере моем – в него как вбито – от моих предков, казаков-первопроходцев, и от поморов, может быть… Шел я, холоп твой, с служилыми людьми по Кеме-реке досередь злых людишек князца Номака бережно и осторожно…
Но я отвлекся.
Комната тесная, уютная, отделенная от кухни русской печью, а от горницы – казёнкой. Зимой здесь тепло. Знаю. С одним окном, настежь сейчас распахнутым, за которым виден ровный, как карандаш, буро-коричневый ствол кедра, до которого хочется дотянуться и потрогать; а дальше – лес, над лесом – Камень, и неба узкая полоска – манит. Тюлевая занавеска – то на улицу выпорхнет, то обратно ворвется – как будто комната ее взволнованно вдыхает-выдыхает. На подоконнике, с потрескавшейся на нем после зимних наледей светло-голубой краской, в стеклянной литровой банке, с зазеленевшей в ней водой, – букет медунок, синих и сиреневых; в бутылке темного стекла – ветка черемухи – лишь зацветает. Воздух уже настоен ею; скоро удушит запахом своим – распространится. Над кроватью ковер, на котором один удалой мавр, сзади, с ружьем в руке, мчится прочь от дворца на черном коне, другой – впереди – на белом скакуне, усадив себе на колени, увозит девушку, прильнувшую к нему, то ли целуя ее в щечку, то ли шепча ей что-то на ухо; девушку они явно умыкнули; над дворцом светят крупные звезды и совсем состарившийся месяц. Над изголовьем – ходики, с гирями в виде еловых шишек, с кукушкой, путающей время, и тремя медведями, хотя медведей там четыре: одна медведица и трое медвежят. На стене напротив, вместо невидимых ушей, портреты в деревянных рамах: Танин, перед девятым еще классом, и родного ее брата, Виктора, в парадной форме авиатора. Между портретами висит на гвозде фотоаппарат. «ФЭД-3». В футляре. Мать и отец на день рождения его ей, Тане, подарили. Как обещали. На столе стоит фотоувеличитель. «Свет». Затемнив окно одеялом или покрывалом, Таня здесь, в секретной лаборатории, как бывалая шпионка, проявляет отснятые пленки и печатает фотографии. Научил ее всему этому брат, и я подсказывал немножко. Заполнила она ими, фотографиями, уже два альбома. И я подарок сделал на Восьмое марта – купил ей третий. И тот – уже наполовину. Есть и смешные: Рыжий на елке новогодней, например, в костюме зайца – танцует с Валей Поздняковой, а Валя – в маске злого волка. Заяц навис над Волком – вдвое того больше. Природы много – без людей. И я тут как-то помогал – чуть не полночи проявляли, только к утру домой вернулся. При красном свете фонаря – иначе выглядела Таня. Луна притягивает так – не оторваться. Много тогда испортили фотобумаги мы – передержали снимки в проявителе. Понятно.
Рядом с фотоувеличителем – проигрыватель. «Концертный». Раскрыт, как складень, и работает.
– Поменяй, – говорит Таня. – Эту уж много раз сегодня слушала.
– Какую? – спрашиваю.
– Какую хочешь, – говорит.
– Падает снег?
– Поставь.
Поставил.
Все пластинки подписаны: ЧТ – Чурускаева Таня. Чтоб мне известно было, чья, если присвою. Не я, так кто-то. Пластинок Таня не жалеет – дает всем слушать. И не вернут когда, не убивается. Эту вот только бережет и от себя не отпускает.
Взял Таню за руку, потянул к себе. Послушалась – с кровати встала.
Танцуем. Наступаем на ноги друг дружке – не ненароком.
Песня закончилась. Сначала запустил. И каждый раз – вроде и ждешь, но неожиданно – будто врывается:
Томбе ля неже…
– Таня, – говорю.
Молчит.
Но я-то знаю.
– Лето, – говорю. – Почти.
– Угу, – говорит Таня.
– А тут снег…
– И кто-то вечером там не придет…
– Еще не вечер, а пришел вот…
Танцуем. Больше стоим на месте. И – целуемся. И пальцы рук ее на шее у меня и на затылке…
Крыльцо, послышалось нам, заскрипело, и дверью кто-то будто хлопнул. И мне, и Тане.
Оторвались.
Села Таня на кровать. Я – к столу.
Как будто век так и сидели.
Чуть позже Таня говорит:
– Это сквозняк… Давай куда-нибудь поедем, – предлагает. – Ты дверь входную плотно не закрыл.
– Может быть, – говорю. – Давай, – соглашаюсь.
– На наше место.
– Хорошо.
– Иди на улицу… Переоденусь.
– А можно, тут я подожду? – Знаю, что нет ответит.
– Нет.
– Ну, я ведь видел…
– Ну и что?.. Иди, я скоро.
– Таня?
– Нет.
И Адамо еще поет. Другую песню. Не про снег. Про что – не знаю.
Три часа дня, кукушка раз прокуковала. Как высунулась, так и торчит; словно застряла или меня увидела и сдохла; молчит, назад не убирается. Будто подпер ее там кто-то.