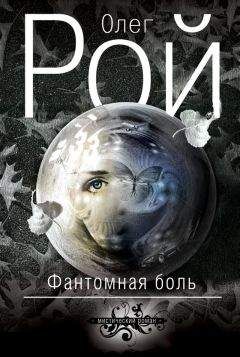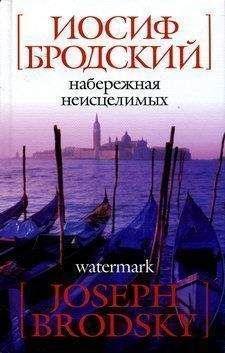– Может, не надо? Может, ну их, вернемся домой? А то… они могут…
– Они – нет, – усмехается Анжела. – Отец – да, может. Но сделать это нужно. Молча, тайком – нехорошо. Нужно сказать. А они… Ну, они как хотят. Отец рассердится, конечно, это к гадалке не ходи. Он-то рассчитывал, что я не сегодня завтра стану его правой рукой. А я вдруг обнаружила, что не хочу быть ничьей рукой. Даже правой. – Она смеется. – Ничего, Леш, посердится и перестанет. А даже если не перестанет… Бог с ним! Сами справимся. Правда?
– Ты мой ангел! – Я наклоняюсь и целую сжимающие руль пальцы. Анжела улыбается:
– Алексей по-гречески означает «защитник». Ты мой защитник, с тобой мне ничего не страшно. Все будет хорошо, Лешенька!
Еще не поздно остановиться, развернуть машину, поехать домой и непременно взять по дороге шампанского (какой дурак придумал, что шампанское должно быть французским? Кислятина, и ничего больше). И потом до самого вечера валяться на шелковом покрывале и, потягивая шампанское, смотреть какой-нибудь глупый сериал или старые советские комедии, где все просто, никаких надрывов, проблемы решаются с шутками и песнями и влюбленные в финале целуются целомудренно, как дети. Ужасающая пошлость, согласен, но такая спокойная, такая безмятежная…
Э-эх, лучше бы вернулись, честное слово!
Андрей Александрович, встретивший нас на крыльце, подтянут, сдержан и подчеркнуто вежлив. Прямо английский посол, фу-ты ну-ты! Вот повезло Анжелке с папашей, кто ж его так… посолил? Он сухо здоровается и ведет нас куда-то внутрь поражающего размерами и отделкой дома.
Гостиная, куда мы попадаем после путешествия по полутемному коридору с картинами и вазами меж декоративными дубовыми панелями, столь же сдержанно роскошна. Семейка в полном составе вкушает кофе. Наше появление отвлекает их на минуту, не больше – вежливые приветствия, кивки, сопровождаемые скупыми полуулыбками (только вторая сестра, Настя, кажется, хихикает в кулачок), – и церемониал продолжается с прежней неспешностью. От этой ледяной сдержанности мне сразу хочется проверить, достаточно ли тщательно я почистил ногти и не надел ли случайно непарные носки. Бросаю взгляд на руки, на ноги – вроде порядок. Но все равно. Приглаживаю ладонью волосы – вдруг растрепался и не заметил. Анжела тихонько сжимает мой локоть – мол, ничего, держись, все будет в порядке.
В порядке, как же!
Меня трясет, ладони все время влажные, я потихоньку вытираю их о джинсы и страшно боюсь, что это заметит кто-нибудь из проклятой семейки – нет уж, не дождетесь! Я холоден, спокоен, и вообще мне наплевать и на вас, и на все, что тут происходит. На изображение ледяного безразличия уходит масса сил, поэтому сам разговор по большей части проходит мимо моего сознания. Актерский навык: если тебе нужно выходить на сцену больным или с похмелья, сосредоточься на своей роли и не обращай внимания на остальных, замечай лишь «ключевые» реплики (ага! вот тут я вступаю!) – и все пройдет гладко. Вот и сейчас я стараюсь игнорировать происходящее, лишь краем сознания слежу: вдруг кто-то обратится непосредственно ко мне. Но им на меня наплевать, беседа сосредоточена между главой семейства и моей Анжелой. Как бы я хотел ей помочь! Но чем? Только и остается, что сидеть статуей и делать бесстрастную морду, ну или, если выражаться прилично, физиономию игрока в покер.
Анжела с таким же вежливо-неподвижным лицом (а я-то знаю, каким переменчивым оно бывает!) говорит что-то о том, что ее не привлекает роль руководителя корпорации, ей не нравится командовать. И ни юристом, ни экономистом ей быть совсем не хочется, поэтому и из аспирантуры она, уж извините, ушла. А хочется ей (ну это она и мне тысячу раз с горящими глазами рассказывала!) заниматься историей, предпочтительно историей литературы, тихо сравнивать источники, копаться в архивах и тому подобное. И не пропадать на работе круглосуточно, а домой возвращаться, чтоб была нормальная семья, а не такая, где домочадцы друг друга разве что перед сном видят, да и то не всегда.
– Может быть, тебе и у плиты стоять, и пеленки стирать хочется? – слегка вздернув бровь, ледяным тоном интересуется ее папочка.
– Может быть, – абсолютно без всякой интонации отвечает моя любимая.
Что он там говорил обо мне, я старался не слушать. Сжимал кулаки, влажная кожа противно и, как мне казалось, оглушительно скрипела, я незаметно вытирал ладони о джинсы, снова сжимал кулаки… Что-то все же доносилось до моего сознания – что-то гадкое, мерзкое, унизительное, что-то про «ответственность», про «рай в шалаше», про «не обеднею, но в своем доме не хотелось бы». Плевать, чего ему там «не хотелось бы», но мне хотелось дать ему в морду! Я еле сдерживался, честное слово!
Но моя любимая, как всегда, на высоте. С вежливой полуулыбкой она выкладывает на стол слабо звякнувшую связку:
– Вот ключи от дома и от городской квартиры.
– Вещи тебе оттуда не нужно забрать? – вежливо, как спрашивают «вам налить еще чаю?», интересуется ее папочка. Тьфу, айсберг! Насобачился на деловых переговорах безразличие изображать.
Анжела лишь поводит плечом и кладет – почти роняет – на стол еще одну связку, поменьше:
– Ключи от машины, – сообщает она очевидное. Сообщает без эмоций, как сообщают о том, что «Волга впадает в Каспийское море».
– Это правильно, – произносит после паузы Андрей Александрович. Лицо его не выражает никаких эмоций. Абсолютно. Как у статуи. Или у мертвеца. И глаза без малейшей искры тепла – тоже мертвые. – Я распоряжусь, в город вас отвезут.
– Не нужно, – все так же бесцветно, с той же безукоризненно вежливой полуулыбкой отвечает Анжела. – Мы сами.
Сами-сами-сами-сами, повторяю я в ритме шагов. До шоссе, где можно сесть на автобус или поймать попутку, километра три перелесками. Теплыми, пестрыми – осенними. В березово-кленовом золоте кое-где бодро зеленеют сосны, тускло рдеет боярышник, пылает рябина, темнеют редкие елочки. Не лес – шкатулка с драгоценностями. Или дворец. Не какой-нибудь там царский, королевский, княжеский – сказочный. Где живут феи, эльфы и волшебные фениксы, где нет времени и нет страданий, одно лишь пестро-золотое безмолвие.
Паутинные нити так тонки, что в тени их вовсе не видно, только на солнечных участках становится заметен легчайший серебряный блеск, словно переливается сам воздух. Анжела отводит этот блеск ладонью и еще несколько раз проводит по щеке, словно стирая прикосновение. Прикосновение паутины или?
Она идет молча, то хмурясь, то взглядывая по сторонам, и кажется странно чужой. Словно палатами сияющего золотого дворца проходит… кто? Фея? Зачарованная принцесса? Сказочно красивая и… незнакомая.
– Анжела!
Она слабо улыбается:
– Ничего, Лешенька. Мне просто нужно немного подумать. Ничего, все в порядке…
Анжела вдруг резко останавливается, бледнеет, словно кто-то выключил в палитре красный цвет: щеки становятся изжелта-серыми, губы синеют – она хватается за корявый ствол придорожной дикой яблони и сотрясается в приступе рвоты. Я придерживаю ее за хрупкие плечи и чувствую, как они дрожат под моими ладонями.
– Анжела, девочка моя, что?..
– Ничего, Лешенька, – шепчет она, прислонившись виском к стволу и медленно, тяжело дыша. – Ничего, все нормально. Отпусти меня, я не упаду… салфетки в сумке… и вода.
Она полощет горло, сплевывает, обтирается влажными салфетками, осторожно, мелкими редкими глотками, пьет. Горло ее вздрагивает при каждом глотке, как у птицы.
– Маленькая моя, что это…
– Порядок. – Она улыбается. – Я… я не уверена… потом, ладно?
– Анжел, – вспоминаю вдруг я. – А что там твой отец про вещи говорил? Ну, с городской твоей квартиры.
– Да ничего, пустяки. – Она качает головой. – Что нужно было, я уже забрала.
До меня внезапно доходит очевидное:
– Так ты… знала? Знала, что так будет?
Анжела поводит узким плечом:
– Предполагала. Надеялась, что обойдется, но… Предполагать предполагала. Отец… он… ну неважно. Он сам меня учил готовиться к худшему варианту развития событий.
– Но раз ты заранее собрала вещи, – я начинаю понемногу закипать, – значит, не очень-то и надеялась?
– Ну… – Анжела печально улыбается. – Всякое бывает.
– Всякое?! Бывает?! – уже ору я. – И полные кошельки кто-то посреди улицы находит. Бывает и такое! Но никто почему-то не надеется, что вот выйду на улицу и найду. Так какого черта мы туда поперлись? Клоунов изображать на потеху почтенной публике? Нельзя все это было по телефону сказать, а не корчиться там, как лягушки на сковородке? Телефоны отменили?
– Нет, – коротко выдыхает Анжела. – Нельзя такие вещи – по телефону. Трусливо, гадко. Нехорошо.
Я понимаю, что сейчас скажу гадость, что лучше промолчать, но сдержаться не могу:
– Ты уж впредь предупреждай меня загодя, когда тебе захочется в благородство поиграть!