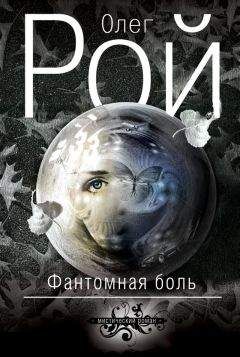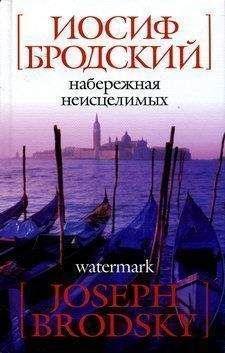Анжела опять поводит плечом и не отвечает. Ну да, действительно.
Со всей дури я луплю кулаком по ни в чем неповинному березовому стволу. Проклятье!
До шоссе мы идем молча. Я почему-то вдруг страшно устал, вот как-то в одну минуту взял и устал. Кажется, что в ботинки налили свинец, но приходится шагать, переставлять эту тяжесть и думать: вот еще шаг, вот еще два, скоро шоссе, там будут автобусы и попутки, можно будет сесть, доехать до дому, выкинуть наконец из головы всю мерзость этого дня, отдохнуть. «Не пылит дорога, не дрожат листы, погоди немного – отдохнешь и ты». Хотя там, в стихах, кажется, была ночь.
Дома Анжелу опять тошнит, и на следующий день – тоже. Я начинаю что-то понимать, а через три дня она приносит заключение из женской консультации.
Время до родов вспоминается как страшный сон. Носила Анжела очень тяжело, у нее отекали ноги, прыгало давление, ее непрерывно тошнило. Не только в самом начале, как полагается, а почти все время. Ужас какой-то.
От страха за нее меня трясло так, что я не мог спать ночами, пялился в темное кухонное окно, смолил сигарету за сигаретой и пытался гнать от себя панические мысли. Все говорили: ну что вы хотите, обычное дело, первая беременность, нервы – а мне уже казалось, что организм Анжелы отторгает, не хочет этого ребенка. Моего ребенка! Я был уверен, что будет девочка. Маленькая, смешная, она будет держать меня за палец и гордо говорить: «Это мой папа!»
И денег совсем не было. Анжела чувствовала себя так скверно, что ни о какой постоянной работе и речи идти не могло, а разовые приработки… ну, сами понимаете. Она брала где-то технические переводы, английский и французский у нее были прекрасные. А я… Что я мог? Практически ничего.
Как мне было страшно! Как я боялся ее потерять! А уж когда моя любимая рожала, я думал, либо с ума сойду, либо в окошко брошусь. Проклинал природу, сочинившую такой идиотский способ размножения, себя, будущего ребенка, все на свете! Звонил в роддом каждые пять минут, тамошняя диспетчерша – или как там они называются – узнавала меня еще до того, как я задавал вопрос. По дыханию, наверное. Не волнуйтесь, говорила, папочка, роды – дело долгое. Шутила типа. Скотина равнодушная!
Впрочем, часа через три я уже напился до такого состояния, что ни о каких звонках и речи быть не могло, просто упал и отрубился, как сознание потерял. Проснулся от звонка моей ненаглядной:
– Поздравляю, Лешенька, ты теперь папа! – Голос Анжелы в трубке звучал тихо и даже как будто незнакомо.
Я… я… заплакал, представляете? От счастья, что все наконец-то закончилось.
Мне и в голову прийти не могло, что мытарства только начинаются. Денег не стало совсем. Приближалось лето, для актеров – мертвый сезон, если ты, конечно, заранее не числишься в гастрольной труппе. Я, конечно, не числился. Переводов у Анжелы тоже стало маловато, да и времени на них, в общем, не было. Настя, не то из сочувствия, не то из стремления в кои-то веки стать для старшей сестры благодетельницей, иногда кое-что подбрасывала, даже коляску подарила. Но это все, конечно, были крохи. На жизнь хватало еле-еле. Я обзвонил всех ближних и дальних знакомых, я готов был хвататься за любую работу, но всем, конечно, было плевать на мои проблемы. Я возненавидел актерские агентства с их вечными «оставьте-телефон-мы-вам-позвоним». Это такой вежливый способ послать к черту. Никто, конечно, никогда не звонит. А если звонит, то это больше похоже на издевательство: «Не могли бы вы на детском утреннике изобразить Бэтмена?» Бэтмена. На детском утреннике. Спасибо, что не Красную Шапочку. Нет, я понимаю, что все с чего-то начинают, никто не позовет с бухты-барахты князя Мышкина играть. Я и на сериалы был бы согласен, хотя для уважающего себя актера это профанация полная. Но Бэтмен! На детском утреннике! Я все-таки актер, а не массовик-затейник! От ненависти к этим уродам я кидался на стены, а Анжела гладила меня по руке, шептала что-то на ухо – утешала.
В полном отчаянии я дошел до того, что подстерег однажды ее папеньку… Ну он же отец, не может быть, чтобы ему было совсем наплевать на то, что происходит с его дочерью! Ей же плохо, ей помощь нужна! И внучка! Это же не просто ребенок, это же его родная внучка! Ей завтра три месяца исполняется!
Короче, я скрутил всю свою гордость в узел, засунул ее подальше и полдня торчал возле его офиса. Небольшой особнячок в тихом переулке смотрелся игрушечкой, нигде ни пятнышка, ни царапинки, застекленное крыльцо сверкает, как хрустальный бокал в дорогом кабаке. Э-эх, куда девались те времена, когда я мог зайти в дорогой кабак? Теперь мне и дешевый-то не по карману. Только стоять и любоваться на чужое великолепие: бордюрчики под мрамор, стены сияют чистотой и новизной. Ну еще бы! Они ж все-таки стройматериалами занимаются, смешно было бы сидеть в обшарпанной избушке, вроде как сапожник без сапог.
Глядеть на всю эту красоту было обидно: торчу тут, словно милостыню пришел выпрашивать, как те некрасовские ходоки у парадного подъезда. Фу, мерзость! Но я затоптал собственное самолюбие, затолкал его в самый дальний угол: а куда деваться? Больше-то пойти не к кому, вот в чем ужас. Ничего, говорил я себе, главное – сейчас выкарабкаться, а потом все наладится, потом можно будет и про гордость вспомнить. Сейчас главное – Анжеле помочь.
Несколько раз я не выдерживал, порывался уйти, но, отойдя на квартал, возвращался. Терпи, говорил я себе.
Лучше бы ушел.
Лучше бы вообще не приходил.
«Сапожник» узнал меня мгновенно, но разговаривать не пожелал. Даже не дослушал! Вздернул слегка бровь и бросил через плечо:
– Мой номер телефона у нее есть. Если ей что-то нужно, она может позвонить сама, вместо того чтобы подсылать парламентеров.
Нырнул в свой «Мерседес» – черный, разумеется! – и укатил.
Этот, тьфу, бизнесмен даже по имени Анжелу ни разу не назвал! «Она», «у нее», «ей» – и вся любовь! Ненавижу!
Конечно, я пошел и напился. А кто бы не напился на моем месте? Анжелке наврал, что встретил старого знакомого, который может помочь с работой, вот, дескать, надо было с ним посидеть по-дружески. Она почувствовала, разумеется, что я вру, она всегда это чувствовала. Но никогда не цеплялась, понимала. Я ж не просто так врал, а чтобы от лишних переживаний свою любимую избавить.
С утра я маялся головной болью, и Анжела не стала меня беспокоить, в детскую поликлинику на осмотр (взвешивания всякие и прочие глупости никому не нужные, но попробуй не приди – медсестра весь телефон оборвет, делать ей больше нечего!) одна отправилась. Ну, то есть с Катюшкой, конечно.
А потом они позвонили и сказали какую-то чушь. Что Анжела вдруг потеряла сознание и умерла прямо там, в поликлинике. Вот как такое может быть? Там же одних врачей сто штук, не считая медсестер! А у них человек прямо перед носом умирает – как это?!
Катьку сразу забрала эта проклятая семейка. А я и не возражал.
Зачем? Мне никто не нужен, раз Анжелы, моей Анжелы, моего нежного ангела больше нет. И меня теперь нет.
Пустота.
* * *
Пустота.
Густая, непроглядная, вязкая, как смола. Знакомый багровый свет расчерчивает ее жутковатыми пляшущими бликами.
Тот же камин. Тот же стол с клубящимися в стеклянной черноте звездами. Те же два кресла подле. Но сейчас пусты оба они. И стакан на столе только один.
Движимый злостью, обидой, чувством противоречия – черт знает чем! – я плюхаюсь в то кресло, в котором раньше сидел дьявол. Ну, или кто он там был, неважно.
Вместо мягко обнимающего кожаного уюта меня охватывает антарктический холод. Словно это не кресло, а сугроб. Провожу рукой по сиденью – ладонь на мгновение ощущает кожаную шершавость и тут же мертвеет от пронизывающего ледяного холода.
Согреться! Как угодно – только согреться! Смешно – умирать от холода в метре от пламени камина. Но я не чувствую этого пламени. Видеть – вижу ясно, но – никаких горячих или хотя бы теплых дуновений. Как Буратино перед нарисованным очагом.
Как холодно! Хватаю тяжелый – полный – стакан и выпиваю залпом. Рот, горло, живот – все тело наполняет вязкая тягучая горечь.
Горечь потери.
Я не хочу, не хочу этого вспоминать – и вспоминаю. Тогда я хотел расстрелять только Андрея. Это он, он убил Анжелу. Мою Анжелу. Моего ангела. Просто взял и выбросил, когда она не захотела больше быть его послушной марионеткой. Любой ценой доказать свою правоту хотел. Или свое господство восстановить. А! Какая разница, чего он хотел. Пальцем не шевельнул, чтобы помочь. Знал, как ей будет тяжело, и радовался, сволочь!
Мог ли я его не убить? Тем более в годовщину того дня, когда он выкинул нас из своего дома.
Остальные?
Остальные просто под руку попались. Забавно, как они все, не сговариваясь, в этот дурацкий «Чайник» приперлись. Р-романтики хреновы! Но так еще и лучше. Ни один из них – ни один! – не то что не двинулся, слова не молвил, чтобы нам помочь. Им было наплевать. А может, еще и радовались, что отец Анжелу выгнал – меньше претендентов, больше денег достанется.