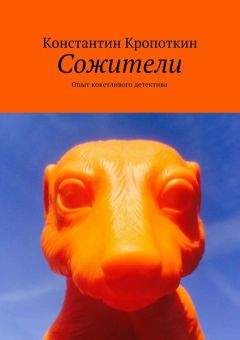Ознакомительная версия.
– Если хочешь, – уже отворачиваясь, сказал я, – дай ей по морде. Она этого заслуживает, и сама это знает.
Он издал неопределенный звук, но узнавать его природу мне не хотелось. Я не ушел, а соскользнул – как соскальзывает капля воды по навощенной поверхности. И это чувство тоже было знакомо. Я чувствовал в теле приятную легкость – я свободен. Точнее – я освобожден. Совсем немного осталось.
Уволен.
Сергей Петрович Конев, главред экспертного журнала, человек вспыльчивый, импульсивный, исполнил мою просьбу немедленно.
– Что ж, – сказал он, – Не держу.
– До конца месяца я доработаю….
– Незачем, – он перевел взгляд с меня на экран своего компьютера, защелкал клавиатурой, – Всего доброго.
Я думал он будет кричать, как уже бывало. Или уговаривать, что тоже вполне в его репертуаре. Ледяного тона, внезапно отчужденного лица я не ожидал.
– Спасибо вам за терпение, – сказал я, мысленно договаривая, что незачем здесь человек, который статейки валяет без искры, а только по служебной необходимости, – До свидания!
Он кивнул, не глядя. Я ушел.
Увольнение – не развод, не разрыв, не расставание. Мы большую часть жизни проводим на работе, но сказать о ней можем куда меньше, чем о часах ночных, часах утренних и вечерних. И вот однажды мы изымаем себя из служебного пространства, а ничего не болит. Во всяком случае, не так, как бывает при расставаниях.
– И куда теперь? – спросил коллега, с которым я просидел рядом несколько лет, но сейчас, описывая эту сцену, ленюсь дать ему даже имя.
– Не знаю пока, – личных вещей у меня почти не было. Нужно было повыкидывать канцелярский хлам, удалить пару личных папок в компьютере и… все.
Все-таки на работе мы – не люди. Мы – ходячий список должностных обязанностей. Люди-функции, служебные и заменяемые. Разбираясь со своим барахлом на бывшем рабочем месте, я подумал, что мое место – у окна, чуть не самое лучшее во всем офисе – будет занято немедленно, я еще и на улицу выйти не успею, как начнутся споры – вон, как они все напряглись, будто спринтеры на старте.
– Финикеев! – окликнул я самого засаленного, – Об одном прошу. Пожалуйста, после мастурбации стульчак вытирать не забывай. Клозет служебный, не один ты им здесь пользуешься. Считай этой моим завещанием.
Теперь я точно мог убираться на все четыре стороны.
Уходя, я все не мог выкинуть из головы эту одну странность -она интересовала меня куда больше, чем испуг Финикеева и реготание бывших коллег. Сергей Петрович Конев, который все эти годы возился со мной, советовал и помогал, закрывал глаза на срывы и хвалил без нужды – он отпустил меня так, словно нанял вчера и случайно.
И такое я будто тоже однажды уже проживал. Когда? Почему?
Для чего?
Часть четвертая.
Отягчающие обстоятельства
Любовь, конечно, но такая, что впору бежать за полицией.
– …считаю, надо выпить за нее, за женщину, за подлинную, тэк-с, королеву, которая… которую…, – стоя с рюмкой водки в чугунной руке, Суржик хотел привлечь всеобщее внимание: мужчина бултыхался в словах, да и мысли его, уже размягченные спиртным, наверняка напоминали кашу, – она такая, что ее, тэк-с, такую…, – он говорил и, не находя должного отклика, все больше становился похож на хищника – странно вытягивалось его лицо.
Человек по фамилии «Суржик» – сегодня в фиолетовых кедах и синем пятнистом пиджаке, перешитом будто из спецовки сварщика, -хотел рассказать о своих чувствах, а лицом сильно напоминал волка.
Мы с приличной поспешностью отошли.
– Они поругались, – объяснил вполголоса Марк, – Суржик Масе самовыражаться не дает, и она теперь ему ребеллирует, – Марк выпучил глаза в сторону блестящей пары, которая шествовала в толпе, но была не способна с нею слиться: снегурочка Мася с лиловой сумочкой в холеной ручке прогуливалась вместе с лощеным кавказцем Ашотом.
Блондинка и брюнет. Выразительные невыразимо.
– Она, короче, теперь шляется с кем попало, – резюмировала толстуха Манечка, скрипнув своим тесным желто-зеленым синтетическим платьем, в котором сильно напоминала обожравшегося питона.
– Ашотик не кто попало, – поправил ее Марк.
– Я лучше знаю, – сказала Манечка, которой, стоит напомнить, знойный кавказец до последнего времени приходился потенциальным мужем.
Он звал толстуху замуж, а она ушла к снусмумрику Голенищеву.
– А что? Весело, – сказал я, предчувствуя аттракцион, – С одной стороны Мася, отороченная кавказской роскошью, с другой стороны пьяный Суржик. Вы «скорую помощь», надеюсь, уже вызвали?
– Нет, – сказал Марк, который был одним из распорядителей этого праздненства, – Только закон и порядок. Не видишь, вон, Боба стоит.
– Не вижу, – сказал я.
Я не хотел его видеть.
– Боба сказал, чтобы мы не беспокоились. Он посмотрит. Так он сказал.
Марк отходчив, он не помнит зла. Я так не умею.
Как ни крути, подлец этот Володя, которого Марк, симпатизируя мордовороту, окрестил «Бобой». У Володи есть Тема, и все мы знаем про их связь, но, «исполняя служебные обязанности», он не сделал ничего, когда Марка едва не обвинили в убийстве. Ну, разве ж не подлец?
– И в этой, тэк-с, женщине, которую я…, в ней… хочу навысказать, что… тэк… с, понять имеет право, потому что тэк-с… в ней я обрел… получил, короче, бл… тэк-с не количественный, но качественный потенциал, который… которая…, – Суржика все несло на глубинах и все трясло на отмелях пьяной любовной реки.
Был потерян он на этом празднике, выглядел жалко, что ему совершенно не шло.
– Слушай, Марусь, ну, не знаю, – сказал я, – Поди хоть предложи Ашоту любовь до гроба, что ли? Отвлеки от этой дуры. А то ведь разметает Суржик его клочки по закоулочкам. Ну?
– Да, в гробу мы его видали, – категорично вступила Манечка. Во взгляде ее, обращенном на блестящую пару, мне почудилось что-то вроде ревности. Толстухе было бы приятней, если бы Ашот оставался безутешен. Чтоб ходил тут, среди людей, один-одинешенек, в мрачном гарольдовом плаще, а не в сопровождении красивой хозяйки веселых сумочек.
– Тэк-с, – донесся снова лязгающий звук, – хочу сказать, что она имеет… тэк-с… имеет….
– Ты хочешь, чтоб тут кровь рекой полилась или что? – вконец разозлившись, прошипел я Марку, – Марш, кому говорю!
Марк издал слабый стон.
Этот праздник не задумывался для свары на почве ревности. В большом белом зале (одном из больших и белых в этом большом и белом, с иголочки, здании), под потолком, у всех на виду, подвешенным на невидимой лесочке, медлительно вращался портрет пухлого Андрюшки в наряде безумного раджи: на голове покойного портняжки красовалась лазоревая чалма, он был облачен в розово-зеленый наряд, вроде сари – и сразу трудно было понять, где заканчивается изображение и начинается рама, сделанная из розового атласа, усыпанная по краю переливчатыми камушками.
В честь трагически покинувего этот мир во имя мира небесного устроили выставку. Давали кукол.
Вокруг портрета портняжки висели они, изготовленные из папье-маше, носатые немного, с вытянутыми грустными лицами, в разных позах – словно бежали по воздуху, словно сидели и что-то думали, словно беседовали друг с другом. Куклы располагались под самым потолком, много выше толпы, из-за чего казалось, что вернисаж двухэтажный: внизу сновали люди, а наверху вдумчиво и печально существовали диковинные существа, словно отделенные от мирской суеты невидимой преградой.
По правде говоря, некоторые из гостей выглядели родственниками андрюшкиных креатур – все та же причудливая сочетаемость тканей и фактур (бумага и шелк, латекс и дерюжка), все та же серьезность на гладких лицах, все та же на полную катушку проживаемая, гротескная эксцентрика.
– У меня совершенно, ну, нет никакого времени, во-обще! – прокричал неподалеку незнакомый толстый человечек в чем-то облезло-рыже-синем. Одной рукой он удерживал возле уха массивный телефон из желтого металла, а другой побалтывал бокал, тонкой своей ножкой продетый меж коротеньких пухлых пальцев, – Как я могу успеть везде, если меня на самом деле рвут на части. Ты же сама знаешь, столько дел, во-обще! Где я? – он смял круглое лицо, – Да мне бы самому понять. Куда-то позвали, говорят, что без меня не начнут. Ну, ты же понимаешь. Вчера, прикинь, мне Федя говорит…, – он отпил из бокала и закричал еще громче, – Дура! Ты не знаешь Федю? Нет, ну, вы посмотрите на нее! Во-обще! – он сунул телефон в карман штанов и, покрутив большой головой, издал серию резких смешков, – Она. Не знает. Федю. Ахвотвыгдеэтоуваснепраздникнастоящийпирдуха! – закричал он далее, внезапно сменив капризный тон на ликующий и, расталкивая людей, ринулся к Масе, – Здра-вствуй, деванька моя! – отодвинув Ашота довольно бесцеремонно, рыже-синий толстяк с тихим журчанием стал ощупывать Масю за талию.
Ознакомительная версия.