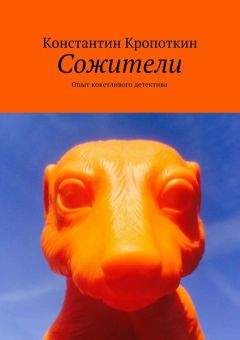Ознакомительная версия.
Особой программы у вернисажа не было. В какой-то момент в микрофон засвистела женщина, втиснутая в лиловое платье. Оглаживая себя по выпуклым бокам, она понесла заумь о сенситивности и ментальности. Иногда эту тягомотину прорывал резкий голос – Суржик все хотел поведать миру о своей любимой женщине.
– Тэк-с…, тэк-с…, – прошивал воздух его срывающийся голос.
– Чует мое сердце, доиграется дева, – сказала Манечка, – Кирилл, сходил бы ты к этому забулдыге, – она указала на Суржика.
– Сказал бы ему, что все чепуха, пусть не берет в голову. Умнее надо любить. Ну, короче, что-нибудь в таком духе. По своему, по-мужски.
– А при чем тут Кирилл? – спросил я.
– Ты что, откажешь женщине? – Манечка все наседала на Кирыча.
И добилась своего. Не женщина, а терьер. Мне только и осталось, что поглядеть Кирычу в широкую спину, мне только и оставалось, что предчувствовать шумный, не слишком бравурный финал.
– Не понимаю, вот зачем? – сказал я.
– Что «зачем»? – спросила Манечка.
– Зачем впутывать в свои дела совершенно посторонних людей? Зачем Масе надо было ссориться с мужем? Зачем ей надо было выволакивать свои семейные проблемы на всеобщее обозрение? Зачем теперь вцепляться в Ашота, который ни ухом, ни рылом? Что за манера?
– У Маси драма семейная, – напомнил мне Марк.
– И в этой драме она, разумеется, главная жертва, – с издевкой поддержал я, – А тебе не приходило в голову, что жертвы и есть настоящие преступники?
– А что? – сказала Манечка, – Может быть.
– Да, такое бывает сплошь и рядом, – сказал я, – Только никто видеть не хочет, потому что не позволяет людям их высокая мораль.
– Отстань ты со своей моралью! Не нужна она мне тут вообще! – лицо Марка собралось в обиженную гримаску, – Ашотик ни при чем совершенно. Мася с ним даже не знакома почти. Шреклих-щит.
– Скучно блондинке, вот и вся у истории мораль, – сказала Манечка, – Мне тоже скучно. Хватит! – и запела.
Она запела на весь зал. О любви, разумеется.
Она запела на весь просторный белый зал, а мы – и я, и Марк – отшатнулись, как-то разом забыв о нашей ссоре. Запела Манечка прямо так: в людском коловращении, ни у кого не спрося.
– Кривлялся заяц на столе
Пасхальным зверем.
На чашке синей в серебре
Две птички пели.
Изумления Манечка не вызвала: броуновское движение толпы замедлилось, люди стали слушать, полагая, видимо, что таков следующий номер программы.
И синий дождь бил наугад:
По окнам, в двери.
А я смеялась невпопад,
Глазам не веря.
Слезой блестела бирюза
На смуглой коже.
Сияли синие глаза
И зубы тоже.
За окном догорало бабье лето, но Манечка угадала настроение верно. У нее вышло как раз по-весеннему: и прелестно, и прохладно, и немного томно, и чуть-чуть невсерьез.
Кокетливо и грустно.
Жаль, платье на Манечке было дрянное – зелено-желтое, тесное, синтетического блеска, не в унисон – и уж вроде куклы поглядывали на нее свысока: «Не могла поизящней нарядиться жирная клуша».
Курился кофе. Я цвела
На самом деле
Вдыхала, верила, ждала.
Ваниль в апреле…,
Допев до конца свою песню – должно быть, одну из тех «трогательных пародий», которые сочиняет для нее сожитель Николаша, – Манечка захлопнула рот и сама как-то схлопнулась: она без всякого поклона осмотрела публику, заколотившую в ладоши не только из вежливости.
– Дор-рогая!… – на толстуху вывалился Голенищев. Он был бесстыдно счастлив в своем вислом сером костюме, – Хорошая! – воскликнул недотепа, потягивая себя за ослабшую веревку полосатого галстука.
– Так, стоп! – Манечка приняла свой обычный командирский вид; люди вокруг спешно загудели, зажили каждый собой, – Гляди на меня! В глаза гляди! Так. Зрачки не расширены. Дыхни! Дыхни, говорю!
Он послушно задышал.
– Не водка, – подергав носом, сказала Манечка.
– Шампанское, – виновато произнес он, – Самую чуточку.
– А счастья столько, будто ведро выдул. Давай!
– Что?
– Говори.
– Что говорить?
– Что я – охуенная певица, по мне Ла-Скала плачет.
– Плачет. Скала.
– И все? – она все смотрела на нелепого любовника.
– Да. Наверное. Не знаю. Я так думаю. Или что?
– Скажи, Голенищев, – Манечка подперла рукой жирный бок – а ты знаешь, почему никто не интересуется, есть ли у настоящих фей личная жизнь.
– Н-нет, – бедный он, бедный, всякий раз, как на вулкане.
– У настоящих фей нет никакой личной жизни – вот почему. Пока я тут творила добрые дела, подумала заодно, что феям личная жизнь не полагается. Им некогда о себе думать. Понятно?
– Д-да.
– И какой, как ты думаешь, выход?
– Н-нет.
– А ну их всех к черту, – она махнула рукой, – Пусть сами разбираются. Говори, скорей, что ты меня любишь, жить без меня не можешь, и мы пойдем.
– Пойдем. Люблю. Не могу. Куда пойдем?
– Эдак жизни никакой не хватит ждать, пока ты растележишься, да назовешь меня своей бархоткой. А мне еще ребенка родить надо. Да, куда ж ты…, – Голенищев мог бы и упасть, если б она не успела подставить ему свое крепкое плечо, – Не возьмешь себя в руки, передумаю за тебя замуж выходить. Понял? – и, скрипя платьем, уволокла снусмумрика прочь, и только счастливое мычание было ей ответом.
– Ох! – пока я наблюдал это странное объяснение в любви, Марк таращился в другую сторону, – Ну, слава богу!
Кирыч возвращался, а от Суржика только спина осталась, да и та, мелькнув, скрылась за дверью. Он ушел в соседний зал, где давали другую выставку, где было пусто, а оттуда, наверное, на выход.
– Обошлось, – Марк проговорил и мое облегчение тоже.
– Ну? – допытывался я.
– Что «ну»? – отвечал Кирыч.
– Что ты ему сказал.
– Что надо, то и сказал.
– И он тебя послушал?
– Понятия не имею.
– А вот он возьмет сейчас пистолет и перестреляет нас всех.
– Не возьмет. Мы договорились.
Отбивая реплики, как волан в бадминтоне, мы с Кирычем добрались до развала с едой.
– Мася, скушай пирожинку, – возле фуршетного стола подпрыгивали неразлучники: Сеня и Ваня. Один молил, а другой дулся.
Надумав завести детей, они стали нежны друг с другом как-то совсем уж непристойно и, будь российская фемида не только жестокой, но и зрячей, то сидеть бы им в тюрьме за пропаганду непристойного образа жизни.
– Мася, хочешь бизешку? – допытывался Сеня-Ваня
– Калорийно, – едва разжимая губы, говорил Ваня-Сеня.
– А чего ты тогда хочешь?
– Воды хочу.
Тот, что подлизывался, потянулся к стоящему на отдалении подносу со стаканами, – и повалился на стол. Сказать точнее – он грохнулся прямо на блюдо с пирожными, которые только что предлагал своему милому другу.
– Ма-ася! Смотри-и! – он встал и, разведя руки, показал грудь белой рубашки, усеянную нашлепками из сладкого крема.
И раз, и два – взметнулись руки. Женщина-снегурочка, весь вечер ходившая по залу прохладной королевой, возникла перед неразлучниками внезапно – и ловко, как кошка лапами, отвесила звонкие пощечины одному из них, – и еще, и еще, и пять, и шесть.
– Мася – мое имя. Мое! Мое! – шипела, словно плавясь, белая снегурочка.
Фух – этим словом можно описать движение, образовавшее вокруг них мертвую зону. На щеках одного из неразлучников зацветали яркие пятна. Я подумал о других цветах – числом тридцать два – которые однажды тоже распустились совершенно неуместно.
Она не выглядела злой, эта Мася. Она была беспощадной – и это вынуждало не дрожать, а столбенеть просто. Резьба сорвалась и хлынуло наружу обжигающее холодом вещество.
Но вот в круг вошел Ашот. Чуть подрагивая лицом, эрзац-кавалер предложил Масе уйти – взяв ее за локоть, он указал куда-то в сторону.
– Он врет, – поглядела на Ашота красавица, – Мася – это я. Это мое имя. Мое! – но позволила себя увести, и люди поспешно образовывали перед ними коридор, глядя на странную пару кто с испугом, кто с любопытством, – Он – врун, – говорила Мася, – Мурло поганое. Он – вор.
Хлопнула дверь. Где-то там, подумал я, должна бы находиться туалетная комната. Сейчас Мася умоется, подправит макияж, а Ашот, взявший на себя роль ее верного спутника, будет покорно ждать у двери, а далее будет сопровождать ее – или в пир, к людям, или в мир – на свежий воздух, туда, где, как я уже сообщал, догорало прозрачное бабье лето.
Камнем повисла тишина.
– Она меня ударила. Больно, – произнес наконец кто-то из пострадавших, не то Сеня, не то Ваня (когда же я научусь их различать?).
– Я давно знала, что она не в себе, – сказала женщина с черным хвостом, выставляя вперел сахарные зубы.
– Это был еще один номер развлекательной программы нашего вечера, – объявил я, стараясь говорить погромче, – И это еще цветочки! Тем, у кого аллергия на ягодки, советуем срочно удалиться!
Ознакомительная версия.