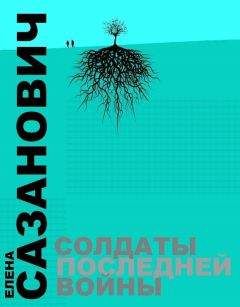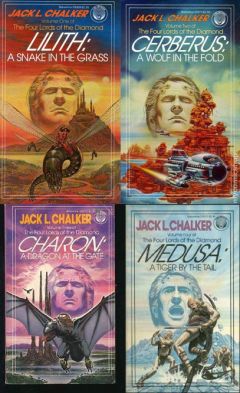Майя тихо приблизилась ко мне и со всей силы обняла за шею. В ее глазах блестели слезы. Лучшей благодарности я и не мог ожидать.
– Что будет дальше, Кира? Что?
Я не знал – она говорила о моей музыке или о нас? Но в любом случае ответить я не мог. Новый год только начинался. Только отсчитывал свои первые шаги. И первые шаги его были счастливыми. За остальное уже поручиться я был не в силах. Впереди – тысячи долгих мгновений. И стоило лишь надеяться, что они будут добрыми. Что нам еще оставалось?
В этот же день, в первый день Нового года, мы всей компанией укатили на электричке домой.
Во дворе я сразу же заметил, что возле нашего подъезда толпились люди. После бурного веселья и бессонной ночи голова была тяжелой. И поначалу я решил, что просто продолжается праздник и соседи провожают (или встречают) очередную партию гостей. Но поравнявшись с толпой, я сразу же почувствовал неладное. Прямо перед нашим носом с места сорвался и резко умчался в темноту милицейский «форд». Люди, размахивая руками, вновь стали что-то горячо обсуждать. Мы с трудом прорвались сквозь толпу и увидели стоявших чуть в стороне Поликарпыча и Василия Петровича.
– Беда, ребятки, беда, – первое, что сказал Поликарпыч.
Мое сердце бешено заколотилось. Неужели этот год, едва сделав несколько беззаботных шагов, вновь повел нас в пустоту.
– Что случилось! Что! – наперебой закричали мы.
По небритой щеке Поликарпыча скатилась слеза. Вместо него ответил учитель.
– Юрьев… Юрьев, ребятки…
– Умер? – вскрикнула Катя.
– Нет, – помотал седой головой Василий Петрович. – Нет… Но от этого не легче… Он… Он убил человека.
Мы онемели. И еще долго не могли прийти в себя. Уже потом мы молча зашли в подъезд, подальше от любопытных глаз. И там, на лестнице, молча закурили. Я догадывался о причинах трагедии. И, к сожалению, мои догадки подтвердились.
– Дворник? – только и спросил я.
Поликарпыч кивнул в ответ.
– Надо же, – всхлипнула Катя. – В такой праздник… И такая беда…
Да, беда нагрянула в праздник. В новогоднюю ночь. Когда в каждом доме – сверкающие елки, накрытые столы, звон фужеров, хохот и поздравления. И среди праздника – пустая и одинокая квартира великого артиста Юрьева. Где сейчас тишина. И ночь.
– Он уже четыре дня, как бросил пить, – вздохнул Василий Петрович. – Сердце пошаливало. Да он и сам мне сказал, что решил с этим завязать. Навсегда. Хотел узнать, что будет дальше.
– Мы позвали его к нам, чтобы вместе… Ну, три одиноких и немолодых мужика… – сказал Поликарпыч. – Но он наотрез отказался. Сказал, что пить не будет, а смотреть, как пьют другие, не умеет. Сказал, что ляжет пораньше спать, чтобы, как выразился, избежать искушения. В общем… Мы с учителем поразмыслили и решили, что так оно и правильно. Да кто мог знать…
Кто мог знать. Что дворник Колян окажется и понастойчивее, и похитрее. Ему одному удалось уговорить Юрьева. Впрочем, я думаю, долго уговаривать не пришлось. Я давно заметил, что какая-то необъяснимая, дьявольская сила толкала артиста к Коляну. Словно злой рок уже давно раскинул свои ловушки. И Юрьеву оставалось сделать лишь шаг. Они были двумя противоположностями. И их столкновение было неизбежным. Мне постоянно казалось, что артист как бы проверял себя, свои силы – годен ли он еще для борьбы. Он хотел выйти в ней победителем. Но ему это не удалось, поскольку опять произошла чудовищная провокация.
– Среди ночи мы услыхали дикие крики, – рассказывал Поликарпыч, прикуривая одну папиросу от другой. – Я сразу почуял недоброе. Что это в его квартире. Бросился туда и через дверь услышал, как Колян орал: «Все вы чокнутые!.. Жаль, что вас фрицы не уничтожили! Вы только мешаете! Без вас мы бы жили припеваючи, попивая немецкое пивко!.. Правильно, что вас вешали! Вас и вешать-то мало!..» Ну, в общем, все в таком роде.
Я слушал Поликарпыча и сердце было готово выскочить из груди. Я ловил себя на мысли, что сам готов взяться за автомат. И…
– И… Когда подоспел и я, раздался выстрел. Мы не успели, – мрачно констатировал учитель. – У Юрьева на стене висело охотничье ружье. И конечно, как в пьесе, оно должно было когда-нибудь выстрелить. Наверное, должно.
– Артиста забрали, – то ли спросил, то ли подтвердил Петух.
– Да, увезли, – подтвердил Василий Петрович. – И теперь слава нашего искусства – за решеткой, на нарах. Один… Вот, судьба великого артиста великой страны.
– Он защищался, – твердо сказал Шурочка. – Он как мог защищал прошлое, своих товарищей, всех нас, в конце концов. Теперь нам надо защитить его.
– Будет очень нелегко, очень, – заметил я. – Конечно, дворник – мразь еще та. Да наверняка и не дворник вовсе. И в бою его запросто можно было бы хлопнуть, как врага. Прямо на месте. Но теперь… За слова не наказывают. За убийство – судят. В конце концов, им нет никакого дела, что говорил Колян. Такое же твердят даже в школах, по телику, со всех сторон. Обложившись законами. Ловко придумали – убивать словами. И абсолютно безнаказанно. Свобода слова…
Юрьева убили. Пуля невидимая и беспощадная все-таки настигла его. Старого солдата, прошедшего всю войну, смерть нагнала спустя много лет. Трусливо выглядывая из-за угла и стреляя пулями-словами…
Я встретился с Юрьевым незадолго до его смерти. Уже было подано прошение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. До суда. Суда над героем войны и гордостью отечественного кино. Мы немало потрудились, чтобы свою подпись над этим прошением поставили его бывшие коллеги. Правда, немногие, самые честные. И, как ни странно, прошение было удовлетворено. Игра в демократию продолжалась.
Мне разрешили встречу с ним. И я увидел перед собой исхудавшего, поникшего, раздавленного, совершенно седого старика. Моего старшего товарища Юрьева.
– Ничего, Геннадий Юрьевич, еще чуть-чуть и вас выпустят, – попытался я его подбодрить. – И все будет хорошо.
– Хорошо уже никогда не будет, Кира… Во всяком случае у меня.
– Не надо так, Геннадий Юрьевич.
– Я не жалуюсь, Кира. Ты знаешь, я прожил счастливую, очень счастливую жизнь. Она вся прошла в борьбе. В борьбе с фашистом, в борьбе за славу нашего искусства, в борьбе с подлостью и мерзостью. И закончил я ее тоже в борьбе. Как солдат. Мне жалеть не о чем… Я по-другому и жить-то не умел. И все измерял законами войны. А на войне, как на войне – есть победители и побежденные. Как закончится эта война? Пока конца не видно, и я уже не узнаю… А ты, Кира, узнай… Пожалуйста, узнай.
Юрьев протянул мне иссохшую руку. Но его рукопожатие оказалось удивительно крепким. Рукопожатие сильного, непобежденного человека.
В этот же день война для Юрьева закончилась навсегда. Он умер от инфаркта. Его сердце разорвалось, как снаряд с последней войны. А в те минуты, когда он, уже мертвый, лежал в морге, по ящику крутили фильм с его участием.
Конница молодых красноармейцев неслась по ржаному, золотистому полю. На фоне алого, кровавого заката. Впереди всех – совсем юный боец. Исхудавшее мужественное лицо, сурово сдвинутые густые брови, буденовка с красной звездой. Размахивая шашкой, он пристально вглядывается вдаль. Туда, где алые блики рассыпались по чистому небу. Туда, где был его дом. Туда, где были все мы. Он пристально вглядывался в будущее и громче всех кричал: «Ура-а-а!» Впереди он видел победу… Я смотрел на его красивое молодое лицо и думал, вот он, Юрьев, живой, полный сил и веры. И не зря он впереди всех. И не зря громче всех раздается его «Ура!»… Небо вновь в кровавом закате. Где-то вдали я вижу красную конницу. И впереди нее – мужественного героя. И до меня доносится, уже совсем тихо, но все же доносится: «Ура-а-а!..»
После фильма я вышел во двор. Было темно и пусто. Одинокий фонарь освещал зимний вишневый сад. Поликарпыч аккуратно и бережно раскапывал еще не оттаявшую землю, осторожно погружая в ямку молоденький саженец. Вокруг него кругами бегал его верный друг Тузик, утаптывая почву. Я подошел к ним. Стал рядом с Поликарпычем, положив руку на его плечо.
– Ну вот и все, – Поликарпыч отряхнул рукавицы. – Теперь и Юрьев снова в строю, рядом со всеми.
– Он же не из твоего отряда, Поликарпыч.
– Все мы, Кира, из одного отряда. Все. Может, не все вернемся с последней войны. Я, видимо, уж точно… Но ты… Ты вернешься, Кира. И посадишь еще много деревьев. Мы уже старые, а вы… Вы сражайтесь. И обязательно возвращайтесь. С победой. Ведь кто-то должен… Помнить…
Месяц спустя к нам ворвались румяные и взволнованные Шурочка с Катей, увешанные пакетами, как новогодние елки. Оттуда вызывающе выглядывали золотистые пробки. А Катя прижимала к груди букет роз, еще влажных от снега.
– Шампанское, розы? – я почесал затылок.
– Какой же ты, Кирка, тупой, неужели непонятно? – Майя обняла меня сзади за плечи, лукаво поглядывая на счастливые лица наших друзей.
– Умница! – Шурочка поцеловал Майю в щеку и принялся с шумом распаковывать пакеты.