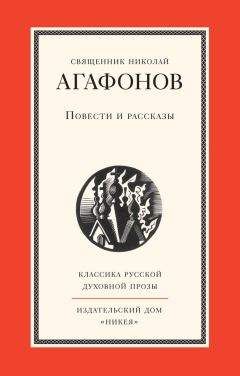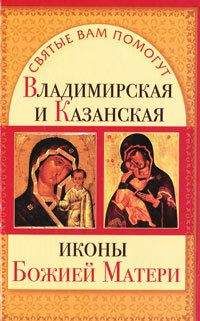Ознакомительная версия.
– А я думаю, может, неинтересно вам слушать: ничего особого не привелось совершить, да и мало чего могу вспомнить о том лагере. Помню, что немцы нас каждый день гоняли на какую-нибудь работу. То землю рыть, то камень в карьере долбить, то дороги мостить. Дороги немцы больше всего уважали. Делали их ровными и гладкими, как полы в хорошей избе. К вечеру, когда возвращались в лагерь, нам раздавали какую-нибудь баланду. Но мы приходили такие изголодавшиеся, что нам было все равно, что дают, лишь бы досыта. У меня котелка или чашки не было, так я ходил к раздаче со своим башмаком. Это такие деревянные колодки, которые мы носили вместо обуви. Так вот я этот свой деревянный башмак так вылизывал, что никакая аккуратная хозяйка так хорошо не вымоет. Бывали случаи, когда во время работ некоторые отчаянные головы решались на побег. Если таких ловили, то сразу прямо на наших глазах вешали. И висели они таким образом три дня, это чтобы нас устрашить. Меня тоже как-то подбивали на побег, но я отказался, страшно. Да не так страшно, что тебя поймают и повесят, умирать-то все равно один раз. Страшно то, что за твою свободу другие будут расплачиваться. За каждого сбежавшего немцы пять человек расстреливали. Построят всех, отсчитают пять человек и тут же на наших глазах расстреляют. Один раз сразу четверо убежали. Построили нас и давай отсчитывать. Вижу, немец в меня пальцем целит, я только и успел подумать: «Никола Угодничек, неужели отдашь этим супостатам на погибель». Другой офицер что-то крикнул тому немцу, и он свою занесенную руку отвел. Я уже потом понял, что они успели двадцать человек отсчитать, когда ко мне фриц тот подошел. Немцы народ очень аккуратный, ни на одного больше, ни на одного меньше. Но, конечно, не их точность меня спасла, а сам Бог, по молитвам Николы Угодника, от меня ту смерть отвел. Отвести-то отвел, но и новые испытания мне уготовил. Приехало в наш лагерь какое-то высокое начальство. Нас всех построили и говорят: «Кто хочет служить великой Германии и бороться с большевизмом, выходите на три шага вперед». Некоторые стали выходить, хотя надо сказать, не так много их оказалось. Сосед, что рядом со мной стоял, мне и говорит: «А что, может, и правда пойти к ним служить? Кормить небось хорошо будут, а то коммунисты нас впроголодь держали, и здесь голодуем». Я ему говорю: «Да как ты можешь думать такое? Коммунисты коммунистами, а Родина нам Богом дана, грех ее за кусок хлеба продавать». «Ну и подыхай здесь со своей Родиной, – говорит он, – а я пойду». Наверное, он не только к немцам служить пошел, но и на меня им чего-то наговорил. Подзывает меня ихний офицер и через переводчика спрашивает: «Ты коммунист?» – «Какой я коммунист, я простой крестьянин». Смотрит на меня офицер и говорит: «Ты нас пытаешься обмануть. У тебя не славянская внешность. Ты, наверное, еврей». «Какой же я еврей, – удивился я, – если я крещеный православный». «А мы сейчас это проверим», – говорит немец и приказывает спустить мне штаны. Спускаю я штаны, а сам чуть не плачу, потому как видят они, что я обрезанный.
– Как «обрезанный»? – удивленно воскликнул я, прерывая рассказ Николая Ивановича.
– Придется, Ляксей Палыч, и эту вам историю рассказать, а то действительно непонятно получается.
Жили мы, как я уже говорил, два села рядом, русское и татарское. Жили мирно. Татары по своим магометанским законам, а русские по христианским. В русском селе землю пашут, да хлеб на ней сеют, а в татарском коней разводят да овец пасут. Толь – ко так уж вышло, что мои родители из этих двух разных сел повстречались и полюбили друг друга. Да так сильно полюбили, что жизни один без другого не представляли. Родители моего отца вроде бы и не против, чтобы он привел в дом русскую жену. Но зато материны родители ни в какую на такой брак не соглашаются. Лучше, говорят, в девках оставайся, чем басурманкой стать. Отец мой стал уговаривать мою мать сбежать от родителей к нему. Но мать сказала: «Не будет нам жизни без родительского благословения» – и отказалась сбегать. Однако папаня мой был человеком отчаянным и больно уж сильно любил мою мать. «Раз ты от своих родителей уйти не можешь, – сказал он, – тогда я от своих уйду. И веру вашу христианскую приму, потому как жизни без тебя для меня уже нет». И пошел свататься. Родители материны на это согласились и тут же повели его крестить. Батюшка окрестил его Иоанном, а фамилию после венчания ему записали материну – Лугов. Вот так я и родился Николай Иванычем Луговым. Отец во мне души не чаял, только очень огорчался о том, что я часто хворал. Решил он, что хвори мои от того, что я не обрезанный. Взял он меня тайно, посадил на коня и поскакал в свое татарское село прямо к мулле. Меня там обрезали, а матери он велел ничего не говорить. Но вскоре я заболел, да так сильно, что все думали, что вот-вот помру. Тут отец, видя, что обрезание не помогло, а стало только хуже, во всем признался матери. Мать стала плакать и укорять отца за то, что он погубил меня. Отец пошел в церковь посоветоваться с батюшкой, как ему быть. Священник его выслушал и сказал: «Христа тоже обрезали, и даже есть такой праздник Обрезания, но потом Христос крестился. А ты, наоборот, вначале крестил сына, а потом обрезал. Сколько лет я служу, а такого у меня еще в практике не было, потому даже не знаю, какую тебе епитимью[184] наложить за твой поступок. Я сельский поп, не шибко грамотный. Поезжай-ка ты в город, там служит архимандрит Нектарий, он академию заканчивал, в семинарии преподавал, может, чего и посоветует». Поехал отец в город, к отцу Нектарию. Тот выслушал его и говорит: «Дьявол колебал твою веру во Христа, и ты не выдержал этого испытания. А теперь Господь через тяжкую болезнь твоего сына приводит тебя к истинной вере. Ибо веру христианскую ты принял ради любви земной, к твоей жене, а сейчас ты должен подумать о любви небесной, к Богу». «Да как же мне о такой любви думать?» – спрашивает отец. «Любовь сия, – говорит старец, – достигается только через бескорыстное служение людям. Иди и с молитвой служи своим ближним. А сын твой жив будет. Но помни, дьявол, видя себя посрамленным твоей верой, будет мстить тебе через скорби твоего сына. Но святой Николай Угодник, имя которого твой сын носит, защитит его от всех напастей». Ободренный такими словами, отец вернулся в село. Я вскоре выздоровел. Отец же очень после этого изменился. Стал ходить по вдовам и сиротам и всем им помогать. Кому избу подправит, кому поле вспашет, а кому и доброе слово скажет. Иногда ведь доброе слово нужнее всяких дел. Платы за свои труды ни с кого не брал, а говорил: «Бога благодарите, а не меня, грешного». Полюбили все в нашем селе моего отца. «Даром что татарин, – говорили о нем, – а и нам, русским, есть чему от него поучиться». Отец же сам о себе говорил: «Я русский татарин, потому что православный». Вот такая была история с моим обрезанием. И вот к чему это привело меня в немецком плену.
Когда немцы увидели, что я обрезанный, спрашивают меня: «Теперь ты не будешь отрицать, что ты еврей?» «Буду, – говорю я, – потому что я не еврей, а татарин». Тут офицер как захохочет, аж за живот схватился. Хохочет, на меня пальцем показывает и сквозь смех что-то говорит. Когда он закончил смеяться, мне переводчик говорит: «Гер офицер считает вас очень хитрым евреем. Он не верит ни одному вашему слову. Он хотел приказать вас расстрелять, но вы его очень развеселили. Вас не будут расстреливать. Вас отправят умирать вместе с вашими братьями евреями». Вот так я и попал в лагерь смерти Освенцим. В лагере мне этот номер на руке и выкололи. Жил я в еврейской зоне. Не хочу вспоминать всех ужасов этого ада. Скажу только, что дымившиеся с утра и до вечера трубы крематория напоминали нам, что все мы там скоро будем. Смерти я уже не боялся. Даже рад был бы ее приходу, если бы не эти крематории. Уж больно мне не хотелось, чтобы меня сжигали. А хотелось, чтобы похоронили по-человечески, в земле-матушке. Вот и молился денно и нощно, чтобы мне избежать крематория и сподобиться христианского погребения. Шел уже последний год войны. Как-то раз повели нас делать прививки, как нам объяснили, от какой-то заразной болезни. Выстроили всех в очередь по одному. В одну дверь все входят, там им делают укол, а в другую выходят. Немцы стоят в начале и в конце очереди. Тех, кому уже сделали прививки, сажают в машины и увозят. Так мы потихоньку и продвигаемся навстречу друг другу. На душе у меня как-то нехорошо. Зачем, думаю, эти прививки, если все равно и так умирать. Перекрестился я тайком и незаметно перешел во встречную очередь, которая выходила после прививки. Погрузили нас на машины в кузов и куда-то повезли. Через некоторое время вижу, с заключенными что-то странное происходит. Они как черви беспомощные по кузову ползают и ничего не соображают. Жутко мне стало, понял я, что это у них от прививок. Вижу, машины направляются в сторону крематория. Тут мне все сразу понятно стало. «Господи, – взмолился я, – молитвами Твоей Пречистой Матери и святаго Николы Чудотворца, спаси меня, грешного, от такой ужасной кончины». А затем давай читать «Живые помощи». Вдруг как завоют сирены. Это значит – воздушная тревога. В концлагере свет погас, машины наши остановились. Налетели бомбардировщики и ну давай бомбы кидать. Тут я под шумок из кузова вывалился да покатился в канавку под куст, лежу не шелохнусь. Закончилась бомбардировка, грузовики уехали, а я остался. Оказалось, что попал на зону, где сидели в основном заключенные немцы. Работали они по большей части в обслуге лагеря, на складах, в столовых. Они меня подобрали и у себя спрятали. Месяц я у них пробыл, а тут уж и освобождение подоспело.
Ознакомительная версия.