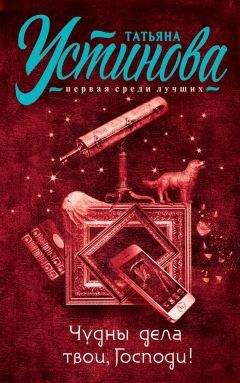Это на первый день. А там, на пасеке, опять искать придется. Есть, обещает Вовка Балахнин. Старый парник – в нем их кишмя кишит, мол. Может, и так, что одного увидел – и кишит. Преувеличивать он любит.
– На паута рыбачить будем.
– Если грозой их не убьет.
– Ну, туча вон. Да и пари́т.
– И я про это… Рыжий, а кто всех воробьев в Китае уничтожил?
Хохочет Рыжий.
– Ну, придумали!
Зашли на Кемь. Окунулись. Вода холодная еще. Ребят на речке никого. Мелюзга только в прогретых на солнце приплесках бултыхается, как пена. Громко визжат, как поросята. Там и племянник Рыжего – Андрюшка. Пять лет ему исполнилось недавно.
– Не утони! – кричит ему Рыжий. – В речку не суйся!
– Иди на хлен, – откликается Андрюшка. Рот открыт. Зубов передних нет. Трусы сползли едва не до колен. Колени в ссадинах. Как колокольчик заливается – смеется.
– Ну, заявись тока домой, – грозит дядя племяннику, – получишь. Ишь, научился… городчанин.
И мне уже:
– Ты, Черный, слышал?
– Яблоко от яблони, – говорю, – недалеко падает.
– И ты туда же.
Андрюшка – сын родной сестры Рыжего, Зинки. Та привезла его в Ялань на лето – к бабушке. На молочко и свежий воздух. Из Елисейска. Замуж уехала туда. Такой же рыжий, как и дядя. Такой же острый на язык.
– Мой бы такого не позволил. Это у Зинки… распустила.
– Здесь-то пока он, и воспитывай.
– Черный, ты чё?.. Я не Макаренко. В тюрьму садиться… за него.
– Тебе ее не миновать… Тебе же дедушка пророчил.
– А ты не каркай.
Загорать не стали. Рыжему нельзя – как со змеи, с него сползает шкура. Потом болеет. Лечит его мать. Гусиным жиром. А мне уж некуда – как голенище. Домой направились. И перед тем, как разойтись, договорились:
Кино в клубе. «Кавказская пленница». Четвертый день в битком набитом клубе крутят, в четвертый раз пойдем смотреть. Только на танцы не останемся – нам надо выспаться перед отъездом.
Мы слов на ветер не бросаем: договорились – решено.
В этом кино красивая артистка. Как кто, не знаю, я в нее влюбился. Да и, скорей всего, ребята тоже. Только вот вряд ли кто из них признается. Не признаюсь и я, конечно: ну, мол, красивая, и что? Честно скажу, ревную ее к Шурику. И на рыбалку с ней сходил бы, Кемь и Бобровку ей бы показал. И на Ислень на мотоцикле бы свозил. Только вот комары в тайге – как она к ним бы отнеслась?.. А я-то с ней – на край бы света.
Давно со мной такого не случалось.
В детстве влюбился, помню, в медсестру. До сей поры не забываю.
Живот у меня сильно разболелся. Брюхо. День, второй болит, не проходит. Повела меня мама в больницу. В приемном кабинете чисто, солнечно. Лекарствами пахнет. В кастрюльке что-то на спиртовке кипятится. Молодая тетенька сидит за столом. Для меня – тетенька, для мамы – девчонка. Пишет что-то прозрачной пластмассовой ручкой в журнале, скрипит неприятно пером по бумаге. «Тетка Елена», – говорит. Это – на маму. И продолжает, оторвавшись от журнала: «И что случилось с нами, черноглазыми?» С мамой о чем-то пошепталась. Та рассказала что-то ей.
Выходит из-за стола медсестра. В белом халате – ослепительная.
Я – на топчане. Уложили.
Мама в сторонке – смотрит на меня.
Трогает, склонившись надо мной, медсестра пальцами мой живот, давит на него мягкой, теплой ладонью и говорит:
– Тут у нас молочко, тут у нас хлебушек, а тут… котлетка.
«Наскрозь я ей прозрачный, чё ли?! Ну, – думаю, – вот это да! Волшебница! И как же видит?!» Пил я и молочко, ел и котлетку.
А склонилась она надо мной. В белом колпаке. Брови вразлет. На щечке родинка. Глаза – зеленые. И это важно. Важно и то, что халат у нее не застегнут на верхнюю пуговицу. И солнце, вывернувшись ловко, устремляется в ложбинку между… И грудь – халатик туго распирает. Я потерялся. Пуще того расстроился живот мой. Не умираю – тужусь из последних сил…
Дала маме какой-то порошок медсестра. Объяснила ей, как надо будет тот употребить. Что после есть и что нельзя.
Передо мной плывет все – как в тумане. Весь в напряжении – топчан бы не обгадить, не опозориться бы мне.
Вышли мы с мамой из больницы. Домой идем. Держит мама меня за руку.
– Практикантка, – говорит. – Чё понимат она…
Девчонка. Еще и опыта-то нет. Надо лечить своими средствами… Хотя бы уголь пососать. Тебя же, парень, не заставишь… Коры березовой погрызть ли. То порошок какой-то сунула.
А я – шальной… Уже без памяти влюбленный. Какой мне уголь? До него ли? Да грызть кору еще какую-то. Не заяц. Зачем мне это? Вроде и слышу мамины слова, но смысла их не понимаю. И свою улицу не узнаю – такой впервые ее вижу: из окон прыскает в глаза, как брызгами, лучами солнечными, резными и простенькими наличниками игриво подмигивает, ворот полотнами безудержно хохочет – стуча и хлопая, впускают они, ворота, бесперечь и выпускают людей, туда-сюда снующих; сдвигает крыши набекрень – те уж без снега, огребённые; с них и не капает, но все еще парят. Дружно журчат в логах ручьи. На еще не просохших проталинах с уже оживающей на них муравой курицы пестрые стоят, охилевшие в курятнике или под шестком за зиму, с удивлением на меня, вытянув шеи, смотрят, как никогда будто не видели; за год, естественно, забыли. Скворцы недавно прилетели. Сидит один, звонкий, на голенастом скворечнике, в пышной кедровой ветке спрятавшись, на всю округу заливается – чтобы скворчихе яйца было веселей сносить или пока гнездо еще устраивать.
Сердце мое тогда вдруг стиснуло от этой трели – тоже впервые. Мимо ушей бы раньше пропустил. И то, что есть оно в груди моей, тогда почувствовал впервые. Знал только то, что есть оно у мамы: Сердце который день уж чё-то ноет – с кем-то из близких чё уж не случилось ли? А у меня оно до этого не объявлялось. Вот как сейчас – и нет его как будто. Ну, разве что… подплавилось немного… мое сердечко, мой мотор.
И мама, помню, говорит:
«Седмица светлая. Суббота… Как быстро время-то идет», – сама с собою рассуждая.
А я подумал: «Ног нет у времени – оно не ходит». Но ничего не говорю: сам не иду, а подлетаю.
Как разлюбил я ее, эту медсестру, убей, не помню. И разлюбил ли? Уж не люблю ли до сих пор? Если, на ум чуть явится, я так тревожусь. Сейчас увидеть бы ее, все сразу стало бы понятно.
Отправился я на следующий год в школу. С удовольствием. Писать, читать уже умел – Колян и Нинка научили. И книгу помню первую, что прочитал еще до школы. «Джульбарс». О пограничниках. И о собаке. Потом на сказки перешел, не расставался с ними долго. И до сих пор еще читаю. Не только наши, и другие, разных народов. Едва дождался – в школу так тянуло. И с первого же класса, с первого же дня занятий начал влюбляться в девочек старше меня. Как угорелый. То в ту, то в эту. В моих глазах одна другую затмевала. Одна другой казалась краше. Но без взаимности. Что им там был какой-то первоклашка. На одноклассниц даже не глядел. Они казались мне тогда неинтересными. Сейчас посмотришь, вроде ничего. Галя Бажовых – та особенно. Из дома только никуда ее не выманишь – от мамы ей никак не оторваться. Мамина дочка, одним словом. Не знаю, плохо это или хорошо? Точно, что плохо: маменькин сынок. У нас таких, наверное, и нет. Я не встречал, по крайней мере.
Это потом уже, после седьмого класса, так же вот, летом, решил я разом: никаких девчонок – их и в упор не буду замечать. И – никаких. Не замечаю. Как отрезал. Только рыбалка и охота. Еще и спорт. Любим в футбол играть. Но больше – в волейбол. Футбольный матч заканчиваем часто потасовкой. Одна команда на другую. Хоть и условимся перед началом: в ход кулаки, мол, не пускать. Нет, обязательно сорвется кто-нибудь – затравит. А там, кто прав, кто виноват, и разбираться уже некогда. До первой крови. Самый несдержанный из нас Андрюха Есаулов. Задень нечаянно его, а он и в драку сразу лезет. И получает больше всех. Только кричать, а драться не умеет. Видел вчера его – еще с фингалами. Не такие теперь уже яркие. А то сияли. После последней нашей встречи – на кубок мира, то есть – Ялани. Не обижается – смеется. Что обижаться, сам зачинщик. «Когда в футбол будем играть?» – «Андрюха, скоро». Лучше б, конечно, без него. Он у Линьковских нападающим. Линьковский – край такой в Ялани. Есть Городской еще. Наш – Луговой, и самый замечательный.
А в волейбол когда играем, не помню, чтобы подрались.
В этом, девятом уже классе, случилось, правда, кое-что. Странно. Нежданно и негаданно. Что-то случилось этой весною… – вот именно. Но еще осенью. Помимо моей воли, врасплох застигло. Бывает. «Бывает, – говорит папка, – и корова летает, а боров песенки поет». И у меня вот. Приехала в Ялань новая учительница по литературе. Лариса Петровна Бестужева-Надрыв. Вместо вышедшей на пенсию Евгении Михайловны Малышевой, нашей классной. Молодая. Только что после института. Двадцать один год. Веселая и симпатичная. В футбол – нет, а в волейбол с нами играла. Пас принимала, резать не могла. Выделили ей комнату в общежитии. Был у нее катушечный магнитофон. И – записи на бобинах. «Енималс». «Крим». «Криденс». «Кинг Кримсон». «Доорс». «Дип Перпл». И много что еще другого, для нас новенького. «Меджикал Мистери Тур» – мы первый раз тогда услышали. Знает английский, нам переводила. Еще пластинки с оперой нам ставила. «Хованщину». «Снегурочку». «Бориса Годунова». Ходили мы, старшеклассники, вечерами к ней. Свет электрический погасим, свечку зажжем. Устроимся где кто – не тесно в комнате – просторная. Она нас чаем угощала. С пряниками. Мы ей вино хотели предложить – не согласилась. «Варну». Не согласилась и на «Айгешат». Я всегда так старался сесть, чтобы ее, учительницу, лучше видеть. Все и поглядывал исподтишка – не оторваться. Тогда сильней врезалась в душу музыка. Кто бы без этого еще и оперу заставил нас терпеть. «Концерты». «Арии». Тому подобное. Год отучила и уехала вот. На правый берег, за Ислень. В большой поселок леспромхозовский. Высокогорск. Замуж, наверное, там выйдет. Парни в поселках боевые – не упустят. Был бы я старше… Сердце мое она оплавила немного. Может, и много – не проверишь. Не заживает. Тайна моя. От всех держу ее в секрете. И перед Рыжим даже не откроюсь – тот засмеет и разболтает. Очень напоминает мне Ларису – так про себя ее я называю, без Петровны – эта артистка из «Кавказской пленницы». Стройной фигурой. И почти одно лицо. Только глаза не карие, как у Варлей, а голубые – у Ларисы. Не я один увидел сходство. Но мне больнее это замечать. Хотя кто знает. «В чужую душу не залезешь, – как говорит мама. – Чужая душа – потемки… да и своя-то». Душа, душа… если была бы. Тело и ум – какая там душа! Это для темных и безграмотных. Двадцатый век. И в космос вон уже летаем. А их из прошлого никак не вытащишь – погрязли. Время такое было – им простительно.