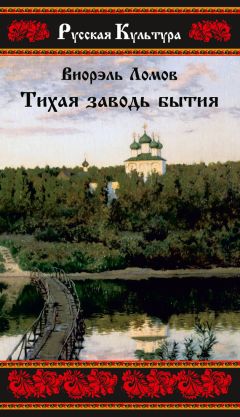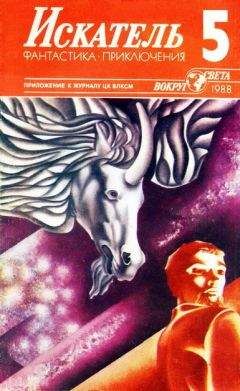– Намерен весь месяц трудиться, товарищ начальник! Всюду, куда пошлют, товарищ начальник!
Салтычихе понравился мой ответ. Она всех распустила заниматься приборкой.
– Едет! – влетел Пантелеев, чуть не сбив Салтычиху с ног.
– Да тише ты, черт! Что тебя носит всегда? Подождет.
Мне тоже понравился ее ответ. Неужели нас начинает сближать общее видение проблемы?
Зашел Шувалов.
– А я прикорнул там, на втором этаже, – хохотнул он. – Со вчерашнего вечера. Привет, дружище!
Он облапил меня.
– Пантелеев! Почему посторонний? – спросила Салтычиха.
Пантелеев наморщил лоб.
– Безобразие!
– Так точно, безобразие! – отчеканил начальник охраны.
– Опять безобразие? – появился Верлибр.
У него, как у всякого директора, было чутье на безобразия. Видимо, они подпитывали его как администратора.
– Вот, на той неделе пропали две вазы, – Салтычиха кивнула на Шувалова.
– Ну, и сволочь же ты! – бросил Шувалов Салтычихе и вышел, хрястнув дверью.
– Пантелеев! Его больше в музей не пускать!
– Даже с экскурсией?
– Даже с экскурсией! Шувалова, как ты жила с таким?
Приехал…
– Приехал! – ужасным шепотом прошипела из входной двери Шенкель. – Мэр приехал!
Салтычиха зыркнула по сторонам. Холл тут же опустел. Остались четверо: директор, Салтычиха, Элоиза и я. Директор придержал меня за рукав. Хороший сигнал. Видимо, меня ждет повышение. Чем-то я ему импонировал.
Вошел мэр в сопровождении свиты.
Мэр был деловит. Ему сегодня еще предстояло побывать на трех рухнувших и сгоревших объектах, пяти стройках, презентации казино «С бодуна», закладке часовни, на выставке детского рисунка, в прокуратуре, а вечером на балете «Коппелия». Досужие языки еще приписывали ему интимную связь с примадонной то ли оперного, то ли театра оперетты, но это они напрасно, поскольку у мэра не оставалось даже нескольких минут для этого. Он поздоровался с каждым за руку. Огляделся по сторонам, что-то соображая.
– Так! – сказал он, потирая руки. – Очень хорошо. Вот тут и соорудите, – обратился он к своему заму по культуре.
Он взял Верлибра под руку, провел его в угол и сказал:
– Вот здесь мы планируем поставить киоск с шапочками и пакетами «Гринпис». А там я вам привез ко Дню, как и обещал, шапочки и значки.
Мэр стоял сытый, довольный собой и готовый к продолжению такой жизни. Постояв, он отъехал дальше по своим делам. Зам по культуре остался и пошел с Верлибром по этажам, засвидетельствовать свое почтение музейным потребностям. Он все время кивал головой и, как иностранец, повторял: да-да-да!.. да-да-да!.. – и, ни разу не сказав «нет», распрощался.
– Уехал! – ужасным шепотом прошипела от входа Шенкель.
– Теперь до следующего года можно и расслабиться, – сказала Салтычиха. – Чего-нибудь пообещал?
– Всё. Но это хуже, чем ничего, – ответил Верлибр. – Из ничего и не выйдет ничего, а из всего неизвестно чего ждать. Утром надо вовремя открыть двери, а то снесут. Граждане знают, что будут бесплатные шапочки и значки.
Я не заметил в них обоих особого напряжения от встречи, значит, он действительно для них был общим местом. Все равно, выкатили бы пивка для расслабления, что ли. Был бы Шувалов директором, точно выкатил бы. Потому и не директор.
Пиво не выкатили, а послали всех сотрудников музея выносить мусор. Через три часа все мусорные контейнеры были переполнены, и Салтыков никак не мог дозвониться до соответствующих служб, чтобы они скорей вывезли их на свалку.
Я теперь знаю, что мне делать…
– Я теперь знаю, что мне делать, – сказала Элоиза, глядя на Салтычиху.
– Ты на что намекаешь? – вздохнула та и подошла к окну. Кряхтя, она взгромоздилась на подоконник. – О, народу сколько! Как бы нам, к чертовой матери, не снесли двери. Пора открывать. Где там Пантелеев?
Мы все влезли на громадный подоконник и отодвинули портьеру. Сверху все было отлично видно. Вся площадь перед музеем кишела людьми. Толпа, предчувствуя скорое начало празднества, гудела и билась о серые стены здания, как волна. Снизу неслись крики, смех, музыка. Больше всего было подростков и пенсионеров.
– Гражданам все равно что, – сказал я, – демонстрация или гулянка, лишь бы вместе побыть.
– Им-то, зачем значки, пенсионерам? – спросила Элоиза.
– Им шапочки нужны, от солнца, – разъяснила Салтычиха.
Пантелев открыл дверь. Толпа хлынула в музей.
– Началось! – Салтычиха перекрестилась.
– Какая панорама! Сюда бы Эйзенштейна, – сказал появившийся откуда-то Федул Сергеевич, театральный критик и, вообще, не чуждый искусству человек.
Мы спустились на первый этаж. Внизу, на возвышении, как на лобном месте, стоял директор. Под ним выстроилась очередь за сувенирами.
Ко Дню открытых дверей музея в залах первого этажа была сооружена выставка, наглядно представляющая стремительное восхождение человека от первобытного состояния до современного.
Первый зал занимало жилище первобытного человека: громадный ствол могучего дерева, толстые лианы, пещера, посередине ее костер, шкуры, бивни, дубины… Гражданам почему-то этот зал нравился больше других, и они по два-три раза возвращались в него. Ближе к обеду некоторые посетители уже не в силах были сдерживать себя, залезли на дерево и повисли, раскачиваясь, на лианах, а в пещере, разлегшись на шкурах, пили пиво и пепси, стучали дубинами по бивням и, врубив на всю мощь магнитофоны, пели дурными голосами. Словом, горожане вполне чувствовали себя в своей тарелке.
– Сколько на завтра будет работы! Сколько работы! – то и дело восклицал Салтыков.
– Да не стони ты! – прервала его супруга. – Ты, что ли, будешь работать? Расстонался! Уберут, не в первый раз.
– И дай бог, не в последний, – вздохнул Верлибр. – Единственный источник поступлений остался. Ты Василий Иванович, смотри, не забудь в смету включить подвал и чердак.
День открытых дверей музея закончился в шесть вечера, и двери закрыли. Допоздна приводили здание в порядок. Все по домам разошлись после десяти часов.
С утра все собрались у Верлибра. Скоробогатов представил смету убытков, нанесенных музею праздничными толпами. Директор просмотрел ее, ткнул пальцем:
– Добавь также туалет на втором этаже и душевую в фондах. И все умножь на два.
– На два? Не дадут.
– Дадут-дадут. Они как раз все заявки на два и делят.
Тут Скоробогатов вспомнил…
Тут Скоробогатов вспомнил, что сегодня приезжает фотохудожник Перхота с выставкой.
– Как же так! – то и дело бил он себя по лбу. – Забыл! Начисто забыл! Старею, черт возьми!
Элоиза поежилась:
– Что-то зябко, дует.
– Брось, дует! Духота такая. Хорошо, я все подготовил: и место, и рамки, и стекла, даже веревочки, – успокоил сам себя главный хранитель.
– Всё готово? – строго спросил Верлибр. – А то, смотри, сам рекомендовал.
– Кто такой? – спросил я у Скоробогатова.
– Знаменитость. Фотохудожник. Последний писк. Известен в Европе, Америке, даже в Японии. Да он выставлялся уже у нас, и не раз.
Элоиза, обняв себя за плечи, вышла из комнаты. Верлибр кивнул ей вслед и укоризненно бросил главному хранителю:
– Ну, что ж ты так, Козьма Иванович, без подготовки?
Только его помянули, как он и приехал, Перхота. На «Газели» с двумя помощниками. Они нас не заметили и стали выгружать ящики с работами и реквизитом. Приехавшим помогали две девочки из выставочного сектора. Пересчитав ящики, фотограф увидел нас и направился к нам. Подойдя, он кивнул головой и стал здороваться со всеми за руку. Его живые влажные глаза, обегающие всех, вдруг замерли, встретившись с глазами Элоизы. Они поздоровались, как старые знакомые.
Занесли ящики. Стали вынимать фотографии, рамки, стекла, специальные лампы подсветки. Фотографии сверяли с «Перечнем» и раскладывали по темам на столах. Впрочем, тема была одна: женская натура, которую разнообразили лишь разные формы, позы и ракурсы, естественное или искусственное освещение.
Перхота прославился тем, что на смену убогим, синюшным, плоскозадым женским образам времен перестройки дал миру живую, округлую, трепещущую плоть, которую хотелось потрогать руками. Его называли Новым Рубенсом. В работах Нового Рубенса были две фишки: во-первых, он любил изображать женщин сзади, на фоне ивы, камыша или полной луны, и, во-вторых, непременно с бабочкой, стрекозой или летучей мышью на ягодице. А еще часто на фоне женского белоснежного зада была мужская черная рука с разрезанным пополам гранатом или очищенным бананом. Художник умудрился нащелкать столько картин, сколько не приснится трем батальонам новобранцев за целый месяц.
Перхота оторвался от созерцания своих шедевров, встряхнул черными кудрями, подошел к Элоизе и спросил:
– Размещать будем в том же зале? Пойдем?
Элоиза повела его в выставочный зал. Перхота шел походкой Жана Маре.