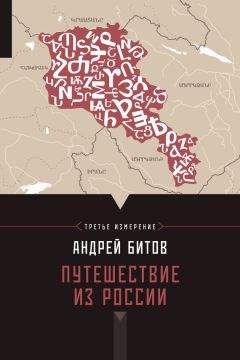Какая-то тревога, похожая на нетерпение, снова подняла меня и вывела на балкон. Новые похороны, такие же пышные и длинные, как первые, пересекали перекресток…
Тут мне изменяет прием, хотя именно так и было: мой первый день, солнечный и оглохший, я жду друга и вижу похороны и раскрываю книгу… Но сейчас я уже не верю в эту последовательность и не выдерживаю ее.
Все это было тогда, но позднее, когда я писал об этом, у меня уже не было под рукой книги. И, написав, что ее можно раскрыть в любом месте, я оставил пустую страницу. Повесть была окончена, а в начале рукописи, приблизительно вот здесь, все белела пропущенная страница: достать книгу оказалось так же трудно, как Библию.
Я пишу эти строки в ленинградской Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года, чтобы заполнить пустое место. Так что если следовать хронологии моих армянских впечатлений, то глава о книге и должна помещаться в этом месте повести, но если следовать хронологии написания самой повести – это, безусловно, последняя глава.
Так вот, я сижу в библиотеке и наконец снова держу в руках эту книгу. В ней пятьсот страниц, у меня два часа времени, и я понимаю, что выбрать из нее наиболее характерные, яркие и впечатляющие места мне не удастся. И тут же понимаю, что это было бы и неверно. Я решаюсь повторить опыт. Я открываю том в любом месте, разламываю посредине…
Из 18 тысяч армян, высланных из Харберда и Себастии, до Алеппо дошли 350 женщин и детей, а из 19 тысяч, высланных из Эрзрума, – всего 11 человек… Путешественники-мусульмане, ехавшие по этой дороге, рассказывают, что этот путь непроходим из-за многочисленных трупов, которые там лежат и своим зловонием отравляют воздух.
Это из путевых заметок немца, очевидца событий в Киликии.
Переворачиваю на сто страниц назад.
Мадам Доти-Вили пишет: «Турки сразу не убивают мужчин, и, пока эти последние плавают в крови, их жены подвергаются насилию у них же на глазах»… Потому что им недостаточно убивать. Они калечат, они мучают. «Мы слышим, – пишет сестра Мария-София, – душераздирающие крики, вой несчастных, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам».
Многие свидетели рассказывают, что армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее, многие бывали пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам.
Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски или распиливают его детей. Отец Бенуа из французских миссионеров сообщает еще о другого вида поступках:
«Палачи жонглировали недавно отрезанными головами и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака».
Пытки бывают то грубые, то искусно утонченные. Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого.
Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках.
Я раскрывал эту книгу в четырех местах. И я больше не могу. Я кажусь себе убийцей, лишь переписывая эти слова, и почти озираюсь, чтобы никто не видел. Тут сидит около ста человек, и никто не знает, чем я занят. Все тихо пишут свои кандидатские диссертации. Я уверен, что занят сейчас самым ужасным делом в этом здании. Мне очень хочется, чтобы мне поверили, что я действительно не подбирал ничего, а лишь открыл в четырех местах, как открылось. Я могу поклясться любой клятвой, что это не прием, что это действительно так. В этой книге осталось еще пятьсот страниц, мною не прочитанных.
У меня кончились черные чернила, когда я раскрыл ее в четвертый раз, и я вынужден писать красным грифелем.
И тут нет ни подтасовки, ни символа – это случай, но страницы мои красны.
Всего достаточно в этом мире. Если мы думаем, что чего-то нет, что чего-то не может быть, что что-то невозможно, – то это есть. Если мы только подумаем – то это уже есть.
Все есть в этом мире, и для всего есть место.
Все помещается.
Я больше не буду открывать эту книгу, я не стану ее читать. Мне кажется, что тогда в Армении, в мой первый день, я раскрыл эту книгу как раз в том месте, которое привел сейчас последним. А внизу проезжали красные похороны… И они уже не казались мне экзотическими: другое солнце, другая смерть, другое отношение к ней…
И теперь, постановив больше не заглядывать в эту книгу, я могу, отдыхая и понемногу успокаиваясь, перед тем как сдать эту книгу библиотекарю, заглянуть сначала в оглавление:
1. Избиение армян при султане Абдул Гамиде (1876–1908).
2. Массовая резня армян младотурками (1909–1918).
Вот и все оглавление. Как прекрасно прилегает 1908-й к 1909-му! Как последняя страница первого тома к первой странице второго… Двухтомник. Ранние произведения – первый том. Посмертно опубликованные – второй.
А потом и предисловие…
Каково общее число погибших армян? Подробное изучение вопроса не оставляет сомнений в том, что в годы господства султана Абдул Гамида погибло около трехсот тысяч, в период правления младотурок – полтора миллиона человек. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, Арабском Востоке и в других странах. Показательно, что если в 1870-х годах в Западной Армении и вообще по всей Турецкой империи проживало более трех миллионов армян, то в 1918 году – всего 200 тысяч[3].
А мой друг говорит не «резня́», а «ре́зня». И я никак не могу отделаться от этого ударения на первом слоге. Будто «резня́» это так, режут друг друга… а «ре́зня» – это когда тебя режут.
И вкус собственной плоти во рту…
Историяс географией
– А это ты уже, конечно, видел, – сказала учительница истории (сестра жены друга), беря с полки плоскую-плоскую, как лаваш, книгу. – Как – не видел?!
Мы садимся на диван, разламываем атлас пополам: одна половина закрывает ее колени, а другая – мои. Я не видал таких атласов с тех славных пор, когда, склонив голову набок и высунув язык, раскрашивал красным цветом Киевскую Русь.
Я смотрел на крашеные карты, и на меня повеяло тоской домашних заданий.
Карта – немая для меня, армянские имена на армянском языке. Синее – это море. А Армения – то желтая, то зеленая, в зависимости от эпохи. Имена армян-завоевателей и завоевателей Армении обрушиваются на меня – лес веков и имен. И моя собственная история кажется мне редколесьем, потому что там, где у нас древность – XVII век, у них – VII, а где у нас – VII, у них – III до н. э. А III у нас уже нет.
Вот она – зеленая, круглая – простирается на три моря. Вот на два. Вот на одно. А вот – ни одного. И так стремительно уменьшается Армения от первой карты к последней, все время оставаясь, в общем, круглым государством, что, если пролистнуть быстро атлас, это будет уже кинолента, на ней будет заснято падение огромного круглого камня с высоты тысячелетий, и он скрывается в этой глубине, уменьшаясь до точки. А если так же пролистнуть с конца до начала, то будто маленький камешек упал в воду, а по воде все шире, шире исторические круги.
Вошел мой друг, увидел.
– А, – сказал он, – атлас…
Сел на диван, положил на колени, раскрыл… И пропал. Буквально – углубился. Он уходил в свою историю по колени, по пояс, по грудь с каждым поворотом-ударом страницы. Он скрылся с головой. И вдруг вынырнул, поднял на меня далекие свои, из глубины, глаза, словно голову высоко вверх, и крикнул, а голос уже еле дошел до меня:
– Что мне не нравится иногда в армянах, так это их воинственность.
– Что, что? – крикнул я в глубину его колодца, голос мой падал, падал вниз, но, кажется, так и не достиг дна.
Мой друг снова склонился и что-то искал на дне. Видно, колечко обронил…
Наконец он вылез на поверхность современности, перед ним была последняя карта сегодняшней Армении.
– Вот так хорошо будет, – сказал он, отрезая ногтем узкий отросток с востока. – Такая круглая-круглая республика…
Я не знал уже, кричать ли мне ему глубоко вниз или высоко вверх, и глупо улыбнулся.
Армяне – воинственный народ. Несколько тысяч лет они завоевывали, и несколько тысяч лет – их завоевывали. Война за собственную историю – их последняя война. И об этом атласе, и тем более о сборнике материалов о геноциде, и о поражении Климова они говорят с гордостью и болью, как о победе.