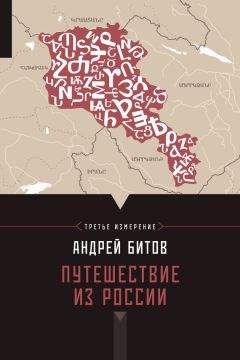…Вошел брат друга. Его молчаливый младший брат. Мы его ждали с новостями: он отвозил жену в роддом. Молча прошел он к дивану, поднял атлас, как тяжесть, и молча утонул в нем.
Он смотрел в трубу своей истории. Он наводил на свою страну опрокинутый бинокль, и там, в невероятной глубине, на дне, светилось колечко Севана, а может, его будущий сын.
Макет
И я следую образу, как методу. Невооруженным глазом я ничего не вижу – надо тут родиться и жить, чтобы видеть. В бинокль я вижу большие вещи, например арбуз, – и ничего, кроме арбуза. Арбуз заслоняет мир. Или вижу друга – и ничего, кроме друга. Или… «Армянский ишак, армянский очень толстый женщина и обыкновенный армянский милиционер…» Каждый раз что-то заслоняет мир. Я переворачиваю бинокль – от меня улетает арбуз, как ядро, и исчезает за горизонтом. И вижу я в невообразимой глубине и дымке маленькую круглую страну с одним круглым городом, с одним круглым озером и одной круглой горой, страну, которую населяет один мой друг[4].
Город
С него началась для меня Армения. В былые времена это было, по-видимому, невозможно. Раньше в незнакомую страну въезжали, теперь влетают. Я летел, подо мной была подстелена вата, я ничего не видел внизу, и то, что я прилетел-таки куда надо, можно объяснить разве что моей доверчивостью, и, если у «Аэрофлота» вдруг объявились бы дурные намерения, я мог бы очутиться где угодно… Какого-либо количества дорожных впечатлений, кроме стюардессы, на этот раз даже некрасивой, я не имел. Страна для меня по произволу «Аэрофлота» началась не с границы, а с середины. Это очень существенно, думаю я, пересекать границу и ощутить перемену качества, хотя бы и тобой привнесенную. Надо было ехать поездом. Очень существенно, думаю я, всегда и во всем иметь начало и тогда уже идти до конца. Книги надо читать с первой страницы или вообще не читать. Где-то в разболтанной моей крови до сих пор откликается педантичность двух немецких бабушек. Во всяком случае, ни одной книжки, которую нельзя было бы читать с самого начала, я не прочел.
Эту книгу мне раскрыли посредине, и я ничего не понимал.
И как книга, о которой уже слишком много и давно все говорят, а ты еще ее не читал, постепенно вызывает в тебе глухое сомнение – уж больно все и уж больно много о ней говорят! – а потом и возмущение: говорят и говорят, а ты так и не прочел, – так и город этот… «Да не хочу я ее читать!» – восклицаешь ты в конце концов. Не хочу я в Париж, не очень-то и хотелось.
Отняли от меня и книгу и Париж. Отняли от меня время их открытия. Я еще, быть может, любви не знаю, а мне говорят: люби! Не хочу! Хочу еще раз собрать подъемный кран из детского конструктора. Это я знаю, понимаю и умею.
Можно это объяснять и так, что человеку хочется быть самому и вовсе не хочется подчиняться большинству. Мол, такова природа протеста. Не хочу я читать эту замусоленную книгу, восхищаться этой выпотрошенной красотой и любить общую красавицу. Для меня, мол, это все общепитовские холодные макароны. Но я не хочу объяснять это так.
Слишком много во мне было заготовлено предварительного восторга, чтобы город так вдруг мог мне понравиться. Мой восторг не имел адреса и был неточен. Я не забрел в этот город по пустым дорогам, запыленный и осунувшийся, а влетел в него, гладкий и сытый, из Москвы.
Я въезжал в город по проспекту Ленина, бывшему проспекту Сталина. Вот слева, видите? Это трест «Арарат» – армянский коньяк, знаете? А впереди тумба, видите? Постамент, то есть бывший постамент, то есть…
Ну как тут что увидишь?
Ну, розовый Ереван, розовый. Из туфа. Да, красивее строят, искуснее. Но почему это именно Армения, я еще не понимал.
Ну, о том, что Ереван мой букварь, я уже говорил. Язык – тут уже ничего не скажешь, – другой здесь язык, армянский…
А что букварь, так это только сказано красиво.
Этого города я не чувствую, в этом городе я невластен, меня все время ведут куда-то, бесчувственного.
– Ну что, пойдем? – говорит друг.
– А куда?
– Пойдем, увидишь.
Мы идем, и я не вижу.
– Сюда зайдем, – говорит друг.
Заходим в учреждение. Мой друг отлучается навсегда. Запоминаю несколько ереванских стенных газет. Возвращается наконец, не один. Знакомит. Выходим втроем.
– Сейчас мы зайдем еще в одно место… – И не то это просьба, не то приказ.
Очень занятые мы люди, очень деловые. Нам все время надо идти куда-то, зачем-то, зачем – не знаю, но верю другу: надо. Так нас становится – четыре, пять, шесть…
– Ну, – сказал друг, – мальчики в сборе… Пошли.
И очень деловито мы пошли, шестеро мужиков.
Еще одно учреждение. Почти такое же, как предыдущее. На юге они всегда кажутся такими случайными и пустыми! Коридор, потом еще коридор, внезапные три ступеньки вниз, занавесочка, ее мы отдергиваем…
И вдруг мы в пивном зале.
– Так мы и знали, что ты тут сидишь! – восклицают мои друзья, и нас становится семеро.
Так вот чем мы были так заняты! В мужском обществе проводим день. Разговор потихоньку тянется, застревая, – пива много.
Я никак не могу поверить, что ничего не вижу, мне стыдно в этом признаться. Восприятие мое натужно, я во всем хочу видеть Армению – и не вижу.
– Ну, как тебе нравится в Армении? – И на меня смотрят мягко и требовательно.
– Очень нравится, – конечно, говорю я. И на меня смотрят как на конченого человека.
Я наливаю тогда пива, а когда ставлю бутылку на стол, в ней лопается необыкновенное количество чуть выпуклых плоскостей, неявных, кругловатых многогранников, и это красиво за зеленым стеклом. Мне там вдруг померещилась армянская церковь, и меня озарило.
– Смотрите, – сказал я, – видите! Вот так же удивительны все плоскости в Армении. Словно бы выпуклые. Круглые многогранники… – Точность моего наблюдения должна была бы снять всякие сомнения в искренности моего восхищения.
На меня посмотрели не понимая. Взглянули на моего друга как на переводчика. Он заговорил по-армянски, поначалу словно объясняя сложность моего образа, но потом мне показалось, что он просто объясняет своим друзьям, что я хороший все-таки парень и не надо обращать на меня внимания. Но потом вдруг я догадываюсь, что нельзя так долго говорить обо мне – не о чем. И тогда я наконец понимаю, что они уже давно говорят о своем и это не имеет ко мне никакого отношения.
Я оказался в одиночке, как в бутылке. Стенки у нее были прозрачные, зеленоватые. Такие странные стенки, немного выпуклые, немного угловатые, немного круглые. Они ломаются, сливаясь. Граненые пузыри…
Друзья спохватываются.
– Ну, как вам нравится?.. – спрашивают ласково.
– Очень нравится…
Что я могу еще сказать?
– Неплохой денек, а? – сказал друг, обошедшийся сегодня без поездки на Севан и явно этим довольный.
– Зам-мечательный…
А что я могу еще сказать?
По обстоятельствам чисто внутренним я чувствовал себя запертым в родном городе и удрал из него… Удрав же, опять оказался в клетке, причем чужой. И своя была все-таки лучше.
Мне следовало обрести простор, чтобы ощутить логику построения дома в этом просторе.
Я обрел простор, вырвавшись из города. Я захлопнул книгу, раскрытую не на той странице, и открыл ее на первой.
Оставалась надежда, что если книга действительно прекрасна, то она сломит мое предубеждение и сама заставит любить себя. Насильно мил не будешь, но насильно ничто и не станет милым. Я никогда не смогу заставить себя любить что-либо. Это мне неподвластно. Я не свят. Но если вдруг: «Боже! – восклицаешь ты. – Так все понятно. Вот, оказывается, почему я не доверял тебе. Это я не тебе не доверял, а тем, кто рассказывал мне о своей любви к тебе, я не доверял. Да не так, не так тебя любили, как следовало любить! Вот в чем дело, – осеняет тебя, и ты меняешь адрес возмущения: – Вот как надо все это любить!» Так надеялся я вернуться в этот город, покидая его.
Нам не важно прошлое любимой, если мы действительно любим (именно потому, что все прошлые любили не так – и их любили не так? – их и не существует для тебя). Может, потом, когда любовь начнет уходить из тебя – земля из-под ног, как неверная точка опоры, и понадобится тебе знание прошлого и ревность к нему. А если это тебе не важно, ты любишь.
Так хотелось бы.
Любовь к городу могла возникнуть лишь после любви к простору, в котором он заключен. Поэтому о городе потом, благо у меня будет к тому повод. Сначала о просторе.
Простор
Простор – категория национальная. Необходимое условие осуществления нации. Когда я смотрю на карту, на нашу алую простыню, я ощущаю пространство, огромное, но еще не ощущаю простора. И если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем – Эстония, корытцем – Армения, то какой же можно заподозрить там простор? Кажется, встань в центр, крутанись на пятке и очертишь взором все пределы. Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства.