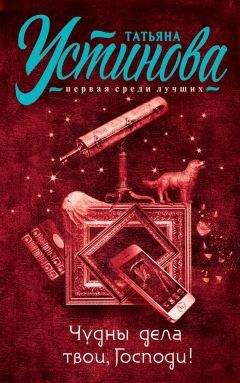Шивера тут, перед мельничным глубоким плесом, протяженностью в полкилометра. Мельничной или Верстовой ее еще называют.
По берегу не пролезешь – чаща. Не леску на удочке, так штаны или рубаху на себе порвешь и на кустах лоскутьями оставишь – метки. Хожу, в кедах, по самой шивере. Мокрый по пояс. Вода в Пещанке родниковая: в горсть зачерпнув, попьешь – зубы ломит. Так мы всегда рыбачим на Пещанке. Только глубокие плеса по берегу обходим. А где по горло даже – по реке – устанешь меньше, нарыбачившись.
Перекат весь прошел, сверху вниз. Поймал хариусов, харюзей по-нашему, сорок. Больших нет. Средненький. Наполнил ими, переложив их листьями крапивы, кан до самой крышки.
Замерзать начал. Пойду, думаю.
Пошел. Согрелся на ходу.
Наткнулся на кусты смородины. Целая палестина, мама бы сказала. Ягода крупная, рясная – набрать не во что, внутрь только – и объелся. У нас не говорят черная смородина или красная. У нас черная – это смородина, а красная – это кислица. Эту, смородину, люблю, ну а уж кислицу – в охотку.
Домой пришел. Натянувший плечо кан с рыбой поставил под навес на чурку. Удилище из рук пока не выпускаю.
Дяди Захара и папки в ограде нет. Бревно, на котором они сидели, свободное. Только лежит на нем папкина, когда-то черная, теперь бурая, выгоревшая уже, кепка-восьмиклинка и точно такая же дяди Захара. Будто они, дядя Захар и папка, вылетели из-под них куда-то, улетучились.
И где искать теперь их, думаю.
Петух на страже. Глаз на меня скосил. Боится – видит в руках моих оружие, знает, что им получит по хребту. С таким шустрым и беспардонным противником не до гуманизма. Сунул удилище под крышу. К крыльцу направился. Следить за петухом, головорезом, все равно надо, чуть обробеешь только, тут же и получишь.
Но без атаки обошлось. Петух задумался, похоже. Мудреет, может?.. Это вряд ли.
Зашел в избу. Нинка на диване – книжку читает. Мама на кухне – из русской печи репу пареную ухватом достает. Паренкой пахнет.
– Есть, – говорю, – хочу.
– Проголодался, – говорит мама. – Слава Богу. То не заставишь. А вот па́ренки не хочешь?
– Давай, – говорю.
– А суп?.. Нина сварила… овощной.
– Пока не буду.
– Только, – говорит мама, – похвалила человека. С репы одной сытый не будешь.
– Я молока потом попью.
– Другое дело… Ну, хошь с хлебом. Ой, а штаны-то… Мокрый-то такой чё?
– Да так, – говорю.
– Переоденься.
– Хорошо.
– Не хорошо, а прямо счас же.
– Да, прямо счас переоденусь. А где папка? – спрашиваю.
– Спит твой папка, – говорит мама. – Уходился.
– А, – говорю.
– Захар Иванович едва убрался… Уж расставались, расставались, топтались тут возле крыльца-то, как полюбовник с полюбомницей… глядела, думала, что рассалуются… А ты чё добыл?.. Ноги лишь намаял… И ведь охота человеку… Жил бы, наверное, на речке, домой с нее не уходил…
– В кане, – говорю, – под навесом. Кто-нибудь почистите.
– Почистим, – говорит мама. – Вроде не жарко – не прокиснут. С репой вот тока разберусь тут.
Пошел я в гараж. Штаны и трусы переодел, мокрые повесил на веревку в ограде сушиться. Кеды на забор после поставил. Солнца нет, обдует ветерком их.
Петуха погипнотизировал – не поддается – не упал.
Войдя в избу, репы пареной поел – вкусно. Молока попил, с хрустящей коркой свежего белого хлеба. Пошел к двери.
– В резиденцию свою опять подался? – спрашивает мама.
– Да, – говорю. – А чё?
– Да так… знать, где искать тебя потом и звать откудова на ужин.
– Не потеряюсь.
– Уж не теряйся.
Из избы вышел.
Вошел в гараж. Дверь не закрываю. Петух не зайдет – вылетал он, кукарекая, не раз отсюда с моей помощью, наученный. Письмо вчера от Тани получил. Коротенькое. Повалившись на раскладушку, перечитал:
«Очень соскучилась. Очень-очень. Приезжай как можно скорее. Мы с Дуськой вина вкусного купили. Отметим наше поступление. Времени нет писать – с мамой идти собрались полоскать белье на речку. Машина с почтой ждать не будет. Письмо в Ялани попросила опустить. Люблю, люблю, люблю, люблю. До самой смерти».
Прошел – по земле, слышу, отдается – папка в подсобку. Кружка там звякнула. Понятно.
Я не заметил, как и задремал.
Позвала меня, разбудив, Нинка ужинать.
Все за столом уже. И даже папка. Перед ним тарелка с овощным, бордовым от ботвы свекольной, супом и зеленая эмалированная кружка с пенящейся желтой медовухой. То никакова аппетиту. Ну, это ясно. Когда уж выпил, начал есть. На ложку дует долго, глаза жмуря. Не ворчит нынче, что горячее, терпит.
И я сел за стол. Ем.
Папка, глядя в свою тарелку, а не на меня, спрашивает:
– Был на покосах?
– Да, – говорю.
– На том и на другом? – спрашивает.
– Да, – отвечаю.
– Как там, нормально?.. То задакал.
– Нормально, – говорю. – Зароды стоят, сено сухое, остожья целые.
– Ну, слава богу, – говорит мама.
– Слава да слава, – говорит папка. – При чем тут слава-то?.. Заладила… После уж сам схожу, проверю.
«Иди, – думаю, – проверяй… если не лень и если ног своих не жалко».
Нинка молчит. На краю стола лежит раскрытая книга, исподтишка в нее косится.
– Убери книгу, – говорит папка.
– Ну, чё-то выдумала… за столом-то, – говорит мама.
Захлопнула Нинка книгу. Ест. Клюет, как синичка. Книга называется: «Миколас Слуцкис, Лестница в небо». Эко, закинуло сестрицу. Я на ней книги проверяю: что читает она, то я читать уже не стану. И эта, значит, отпадает. А возможно, и хорошая. Завел я, значит, для себя дурное правило. Но отменять его пока не собираюсь. Жизнь, если что, поправит это правило. Так полагаю.
Поужинали.
– Спасибо, – говорю, вставая из-за стола.
– На здоровье, – говорит мама.
– Пойду, прогуляюсь, – говорю.
– Опять, – спрашивает мама, – на всю ночь?
– Да нет, конечно, – отвечаю.
– Проверю ночью.
Проверяй, мол.
– Шесть часов – уже не утро, – говорит папка.
Что к чему сказал, не знаю.
Пошел я, как у нас говорят, на деревню.
Кино в клубе. «Мистер Питкин в тылу врага». Смешное. Раза четыре уже его видел. Сегодня не пойду.
Маузер, оказывается, вернулся. Возле клуба его встретил. Поговорил с ним. Пообещал мне, что до отъезда в Исленьск на учебу посмотрит генератор на моем мотоцикле. Починит. Даже и не сомневаюсь. Жаль, что не сегодня. Дел у Маузера накопилось много, утром сегодня только что приехал. Ничуть не важный, хоть и поступил. Хирург будущий, не хухры-мухры.
– Пойду, – говорит. – Баню отец истопил.
– Давай, – говорю.
– Может, со мной?.. Попаримся. Потом по стопочке… есть самогонка.
– Нет, – говорю. – Сходить тут надо в одно место.
Не признаюсь уж, что не люблю до смерти париться. И самогонку не люблю.
– Ну, давай, – говорит Маузер.
– Ну, давай, – говорю.
– Завтра приду к тебе… после обеда.
– Ладно.
Пожали руки – попрощались.
Зашел в клуб. Поиграл в бильярд.
Посидел после у Гали в библиотеке, пока шло кино и в зале зрители смеялись.
– Пойду, – говорю.
– Домой? – спрашивает.
Врать не могу, но и сказать правду почему-то трудно.
– Нет, – говорю.
Молчит Галя. Нос побледнел – горбинка выделилась, а на загоревших за лето – в огороде и на покосе – щеках, прямо под глазами, превратившимися в сплошные зрачки, кожа у нее вдруг покраснела двумя ровными и небольшими пятнами – они как вспыхнули – не гаснут.
Поднялась Галя со стула, подошла к полке, выдвинула какую-то книгу, не посмотрев, обратно ее втиснула.
– До завтра, – говорю.
– До завтра, – отвечает.
Коса у нее на спине. Толстая. Длинная. Пшеничная. Золотится в свете электрическом. Смотрю, любуюсь.
Не сразу, но повернулась ко мне Галя, улыбается.
Мне уходить не хочется – пошел я.
Вышел из клуба. С крыльца спустился.
Взрослые, обсуждая весело кинокомедию, домой стали расходиться. Молодняк – диваны в зале громко раздвигать. Место для танцев подготавливают. В фойе, слышно, костяные шары бильярдные друг о дружку стукаются. Парни смеются. Надя, буфетчица, на них ругается – стаканы ей не все, наверное, вернули.
Не разъяснивает. Ельник почти не различить. Остов церкви бывшей смутно проступает.
Штакетник новый, не покрашенный пока – светлеет.
Вдохнул воздух полной грудью.
Пешком направился в Черкассы. К полуночи дойду, думаю. К часу уж точно доберусь.
Темно совсем уже. Еще и морочно. Привыкнув и приглядевшись, ориентироваться все же можно. И все знакомое же чуть ли не до метра – шагами сколько раз измерил эти версты – их тут двенадцать.
Поднялся на Яланскую Осиновую. Поворот впереди крутой. Все собираются спрямить дорогу там. В тот вечер, когда мы выпили подарок Лаврентьева Шурки, десять литров медовухи, поехал я на своем мотоцикле к Тане. Как раз на этом повороте. Выведу, думаю, его, поворот этот, с закрытыми глазами, по памяти, или нет? Получится у меня это, нет ли? Скорость под восемьдесят – так, примерно. Перед самым поворотом закрыл глаза, но скорости не сбавил. Открыл их, было уже поздно – снова пришлось их закрывать. Съехав в кювет, перевернулся. Мотоцикл лежит, мотор работает, заднее колесо крутится. А я, покинув, как снаряд, выпущенный из пушки, седло, полетел в тальник густой, что и спасло меня – спружинило. Но спину сильно расцарапал. Таня опять мне мазала ее зеленкой или йодом, уж и не помню точно чем. Мотоцикл поднял, на дорогу вырулил, поехал дальше, глаза уже нигде не закрывая. Но беды мои в тот вечер на этом не закончились. В Черкассы не стал въезжать на мотоцикле. Оставил его на въезде в деревню, в ельнике. Пошел пешком, чтобы явиться неожиданно для Тани – так захотелось мне обрадовать любимую. К дому приблизился. Все вроде спят. Ворота на засов заперты. Пошел к окну Таниной комнаты. Перелез в палисадник. Подергал – на шпингалет окно закрыто. Из палисадника выбрался. Прошел дальше. Залезу, думаю, в ограду, а из ограды – на чердак. Таня там, всего скорее. Сразу за заплотом, внутри ограды, навес. Между верхним бревном заплота, в два метра с лишним высотой, и крышей навеса щель узкая. Едва протиснулся в нее я. В ограду спрыгнул. На́ тебе. Встал на задние лапы передо мной, прижав меня к заплоту, Соболь. Уж поджидал меня, конечно. Раз хоть бы взлаял. Передние лапы мне на плечи положил. Молчим оба. Я – ясно почему – дар речи утратил, Соболь – пойми его попробуй. Темно. Но вижу белые его клыки, чуть их ощерил. Не рычит. Не знаю, чем бы это завершилось, если бы, словно почувствовав, не спустилась с чердака, держа в руках фонарик, в ограду Таня – ей захотелось вдруг на улицу с чего-то. Спасла. Но страху-то уж натерпелся. А взял да нос мне откусил бы. Нос – еще ладно, горло бы мне передавил. Хоть я и думал там, что просто, мол, не сдамся. Соболь меня и пропустил бы, может, если бы от меня не пахло медовухой – это его, пожалуй, и смутило. Хотя кто знает. Попробуй влезть ему в башку. Его и кличку сразу-то забыл, потом уж вспомнил.