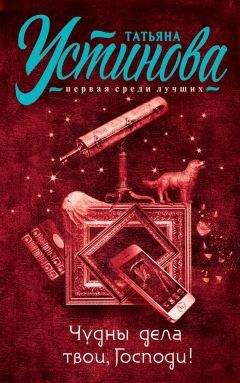Брожу, твержу – пристало к языку, как семя маковое к воску:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора…
Все соответствует. Почти один в один. Только у нашего двора еще сентябрь только на подходе. Сибирь-матушка, что поделаешь. Весна у нас позже, зима у нас раньше. Не в пользу лета. И не в нашу. Лес обнажается, но тихо – ветер пока с печальным шумом с него одежды не срывает; не за горами, как говорится, и настоящий листопад – листомыт ли, как называл его Иван Захарович Чеславлев, – начнется скоро, вот только дунет листодёр. И не летели еще гуси. Но уже скоро загагакают – если и ночью, так разбудят – не знаю, слышишь чем, но просыпаешься – как по тревоге. Так человек с природой крепко связан. И с остальным животным миром. И журавли, курлыкая уныло, со дня на день, выматывая вслед за собой из тебя душу, к югу потянутся; исчертят небо косяками – словно испишут, и кто захочет что, тот то из этого и вы́читает – один печаль, другой загадку, а третий: вот бы подстрелить.
Заведено так – смены года. Марфа Измайловна сказала бы: Порядок Божий. Ну а что было бы, если бы здесь всегда тепло стояло? Я не согласен, не хочу, хоть и люблю, конечно, лето. Уж лучше так пусть остается, хоть и зима у нас чижолая.
Мы, чалдоны, к лютым холодам привышны, нам они не погибель, как немцам или французам. В зиму-то долгую, конечно, и у нас случается, что насмерть кто замерзнет. Не без этого. Но ведь и в луже можно утонуть. По пьянке чаще. Брат у меня двоюродный, Василий, без рук, без ног вон десять уже лет – так Новый год в сугробе встретил. Был в моем возрасте, теперь ему под тридцать. А, говорят, хотел идти на клоуна учиться. Сейчас детей на улице смешит. Но человек-то он хороший. Побывавший во время Первой Ерманской в австрийском плену и много что о ём рассказывавший, Иван Захарович когда-то говорил: «У их там чё, все плюс шашнадцать, што даже яблоки произрастают. Вышел и жри их, скока влезет, пока жалуток принимат… И чё ж не жить людям, в таком благодовольстве… По всей зиме гуляй себе без полушубку, без пимов, тока в обмотках… Скажешь: зима – соврешь – одно названне».
Да вот еще: с тем, что после октября, а у нас, выходит, после сентября, по мнению Александра Сергеевича, время наступает скучное, мне трудно согласиться. Если начну перечислять все радости этой поры, пальцев не хватит на руках. Но это так уж. Пушкин – точный. Не про Сибирь же он писал, а про Центральную Россию, то есть про ту, что от Ялани за Уралом.
Надо менять определение, оно давно уж устарело, так как Центральная Россия – это мы. А то недоброе случится: как назовешь, так и поедет. Мы не Заморская Британия. То вдруг отколят, есть кому – Сосед у нас такой ретивый вон. А с Центром тут у нас, труднее с нами будет справиться. Так полагаю.
На Таймыре, говорят, снежок уже пробрасывал. Ожидай, значит, и здесь. Будет с недели на неделю. Первый – предупредительный, лишь попугает. Может, и так: навалит и не стает. Бывало. Север дохнёт вот только в нашу сторону, так сразу в ельнике Кобыла Серая заржет – осень привяжет ее к елке.
Люблю русскую поэзию. Пронимает. Лермонтов. Алексей Константиновича Толстой. Сергей Есенин. Современных плохо знаю. Это сестра моя – та всех наперечет. И Вознесенского, и Евтушенко. А мне они – ни сердцу, ни уму. Из-за нее их не читаю. Возможно, зря. Но так сложилось. Нинка мне говорит, что я балбес, дескать, ни бэ ни мэ в такой поэзии. Я и не спорю.
И Ахмадулину не знаешь?!
Ну, и не знаю.
Хвораю, что ли, – третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
– Как вы дрожите, Белла!
Сама – читает и дрожит… как эта Белла. Все воздыхания сплошные.
Очень мне нравится у Бунина Ивана Алексеевича:
Но осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Но и не только это. Разное. Поэт хороший. Да и писатель замечательный. Рассказы ранние – особенно. Только вот он, русский барин, Иван Алексеевич, как мне кажется, очень боялся и не любил старости, а потому и осень чувствовал пронзительно – как свое личное старение. Так я считаю. Может, и не прав. И старики его противные, хоть и изображены здорово, еще поэтому, наверное, так впечатляют. А мне вот любы старики, только их жалко – многого не понимают – родиться выдалось им при царизме. Девушек Бунин не боялся…
Колян с Нинкой уже в Исленьске. Старшекурсники. Нос задирают. Не привык пока еще, так без них скучно. На Седьмое обещали приехать. Долго ждать – больше двух месяцев. Приедут, конечно, куда денутся – они ж по нас скучают тоже. Надоедаю им, но и по мне. Кто ж им заменит брата младшего?
– Тихо дома стало, – с сухими глазами, плача подбородком, говорит мама. – Как в приюте.
– Да уж, – говорит папка. – То густо, то пусто.
Что скучает, не показывает. Он – как шкаф наш, что на кухне, – как из лиственницы сделан.
Меня в расчет как будто не берут. Ну и напрасно: шуму могу устроить и один – возьму гитару, стану тренькать. Не злоупотребляю, конечно, – в гараже терзаю струны. Тут все разучивал «Цыганочку». Не с ходу, конечно, но получается. Тыда-тыда, тыда-ты-да… Пальцы болят уж – натрудил так.
Двадцать восьмое августа. Пятница. Завтра и Таня уезжает. Не хочу об этом думать. Лезет на мысли разное, всякая чепуха. Сопротивляюсь этому – стихи читаю про себя, какие помню. Но сердце ноет все равно. В песне-то как там?.. Не нейлоновое.
Первый раз за десять лет не пойду нынче в школу, за парту не сяду, а, вернувшись из школы, не стану исполнять домашнее задание – не по себе как-то. С первого сентября, со вторника, начинаю работать. Кто мне скажи теперь, что я – не взрослый.
Заморозок сегодня был. Сильный. Лед в бочке еле раздолбил, чтобы водой холодной сполоснуться. Все кругом покрылось толстым инеем – как снегом. Смотрел, когда встал, на улишный градусник – минус восемь тот показывал. Градус, полградуса приврал ли. Солнце над Камнем поднялось – и сразу потеплело. И с крыш закапало, будто весной. Куржак в тени и до сих пор вон не растаял; тряпица влажная – на ней он.
Сплю в гараже еще. За что меня ругает мама. «Простынешь, – говорит, – тогда узнашься… Там, в гараже твоем, идь как на улице». – «Не простыну», – отвечаю. Мама качает головой: поговори с таким вот, дескать.
– Уже Успенне… Завтра Третий Спас, – говорит мама, оглядывая безоблачное небо и зеленый ельник. – Идет время.
– Скачет, – говорю.
– Картошку скоро уж копать… Тебе и скачет… Станешь вот старым и посмотришь. Год – для тебя, для нас он – день, и тот проходит, как минута. Проснулся, встал, немного потоптался, вроде и сделать ничего не сделал – уже и вечер… Как мотыльки мелькают, дни-то.
– Я уже старый, – говорю.
Смеется мама: дурачок, мол.
Обновили мы с папкой омшаник. Сруб перебрали чуть не полностью. Папка поставил косяки и двери прежние навесил, после отдушину наружу вывел, я настелил заново на перекрытие из лиственничных нетолстых кряжей в июне еще надранное бересто и закидал сверху и с боков сооружение сухой землей – вроде кургана что-то получилось. Старый-то был у нас – уже расплющился.
– На блиндаж, – когда уж сделали, спросил у папки, – похож наш омшаник?
– Как не похож, похож, – ответил папка.
Пчелам зимой тепло в нем будет, да и ладно.
Закончив работу, пообедали. Выпили, обмывая постройку, с папкой по кружке медовухи. Папка потом еще добавил. Я отказался, мне хватило.
Было это вчера.
Без дел сегодня пребываем.
Тоскливо как-то. Сделалось вдруг и беспричинно. Никуда, и на рыбалку даже не хочется идти. Включил приемник. Восторженный дядька рассказывает мне и всему миру о том, что имя газеты «Ленинские искры» присвоено какому-то трактору и океанскому сухогрузу… Выключил. За книгу взялся – не читается. Вроде и интересно: «Рецензия на роман Ж. Санд „Индиана“».
«В общем, если вам близки чувства одновременно сладостные и сильные, если для того, чтобы сердце ваше забилось, не нужно ни зрелища изувеченных людей, ни запаха трупов, если вы устали от морга, холеры, санитарных бюллетеней и анатомического вскрытия государственных деятелей, прочтите два этих тома…»
Писать письмо Коляну буду, вставлю. Но без кавычек. И вы на ты, конечно, поменяю. Пусть очумеет.
И мама ходит, повторяет:
– Чё-то душа болит… не знаю, прямо.
У меня душа не болит, но что тоскливо сделалось вдруг – это точно.
На крышу дома забрался. Ялань в бинокль поразглядывал, на Камень тоже посмотрел. Все изучено, до мелочи. Весь желобник крыши уже завален желтыми березовыми листьями. Береза наша раздевается. Взялся за ветку – поздоровался. Сфотографировать ее, думаю, надо. В армию уйду, хоть с нее фото со мной будет. Вернусь, сравню – насколько постареет.