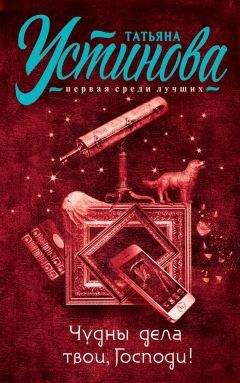– Не духарилась бы, – говорит дядя Петя. – То раскудахталась, смотри-ка… Шестую партию сыграм.
– Но! Больше делать неча мне, играй с тобой тут.
– Холера, а!.. А справедливось?!
– Да уж кака тут справедливось… четыре раза обыграла.
– Не мухлевала бы, не обыграла б!
– Уж не болтай.
– Ишшо за фук с тебя не взял.
– Да никакого фука, парень, не было… Ишь, сочинят чё.
– Сочинят.
– За бражку честь готов продать он.
– Честь, баба, в шерсть, а еслив нимо?..
– Ты думай, думай.
– Не мешай.
– И не мели тут чё попало… ишшо при людях.
– Вынуждашь идь.
Гляжу на разлучницу – пыхает – нет до меня, до любовника, ей никакого дела, да и ни до чего, кажется; в пол уставилась глазами – те будто выпадут вот-вот. Руки на батоге – как будто цельная коряга. Юбка зеленого сукна на ней трясется мелко-мелко. Старуха – тайна для меня. Еще какая.
Гляжу. Ну, думаю. Не оторваться. И почему притягивает так?
– А Таня дома? – спрашиваю все же.
– В клуб… Дуська зашла за ней… направились с подружкой, – говорит тетя Надя. – Тока что были тут, принаряжались… Пошли прошшатса… Ну, чё задумался, ходи уж… Что так, что так – возьму три шашки.
– Ага, обрыбилась она, – говорит дядя Петя, рукой над шашкой замахнувшись. – А ну-ка, будь добра, руби-ка! – И шашку тут же передвинул.
– Ну, – говорю, – пойду.
– Найдешь ее, скорее возврашшайтесь, – говорит, глядя на меня лучистыми глазами, тетя Надя. – Ужин готов, хошь поедите… И порублю, и не задумаюсь, – уж дяде Пете объявляет.
– Руби.
– Рублю.
– И порублю вот.
– Ну, дак давай.
– Ты и попался.
– А это, баба, поглядим.
– Без бражки ты, мужик, остался…
– А здря ты так!
– А вот посмотрим!
Открыл дверь, говорю:
– До свиданья.
– С Богом, – говорит тетя Надя. – Ступай… Ее уж, Таньку, там поторопи… она не ела, побежала.
– Ладно, – говорю. – Если найду.
– Найдешь, – говорит тетя Надя. – Не Киев.
Из избы вышел. Темными, прохладными, пахнущими черемшой и старым деревом, сенями босо прошагал. Переступив порог, стою, от солнца жмурюсь – светит прямо мне в глаза.
Слышу, как дядя Петя возгласил в избе: «Идь смухлевала все ж таки, сумела! Глаз за тобой не хватит – уследить!.. Давай, шестой раз, не увиливай!»
Не разберу, что отвечает ему тетя Надя.
«Ох, и проворна ж, баба, ты!.. Как, и не знаю, умудряцца?!»
Хорошо все, думаю, и день погожий, и родители у Тани замечательные, одно вот плохо – Таня завтра уезжает. Даже не плохо – отвратительно. Вспомню, и сердце стискивает, как щипцами, кровь из него – так кажется – цедит.
Может, и не беда – на фронт вон люди уходили, как дядя Петя, а с тетей Надей вместе сколько уж живут. Если, как мама говорит, любовь – та всё… Нет, не хочу сейчас об этом даже думать. У нас весь вечер впереди. Потом – что будет, то и будет. Как говорит дядя Карл, отец Витьки Гаузера: «Комт-цайт-комт-рат-комт-гуркен-салат», – об этом же примерно или о похожем. Или как говаривал Иван Захарович покойный: «Баба крутит задом, вертит передо́м, а все идет своим чередом».
Но все равно: без Тани жизни я не представляю – как по живому отсекать.
Курицы, беспечно квохтая, меня будто не замечая, топчатся на чистом, с наскобленными берестиной с песком до янтарного цвета плахами сосновыми, крыльце. Уже успели – все заляпали, не только лапами, но и дриснёй.
Прогнал их, после уж обулся.
Выйдя за ворота, направился к клубу. Клуб на виду, идти недалеко. Одно название что клуб – изба обычная, не крестовая, даже и не пятистенная. Вроде часовенкой была когда-то – переделали. Внешне-то – ладное строеньице.
Пришел. Вошел – только со свету-то – приглядываюсь.
Пластинки слушают. Одни девчонки. Сидят все около застеленного красной бархатной скатертью с длинными кистями стола, на котором стоит проигрыватель-складень, не танцуют. Но что-то шумно и со смехом обсуждают. Кого-то, может. Замолчали.
Пол помыт, еще и влажный. Пластинка крутится – песня звучит: О Марко, Марко, Марко Поло… Мы под нее когда-то твист выделывали. Пластинка запиленная, заезженная ли – одно и то же повторяет:
О Марко, Марко, Марко Поло… дзыть… О Марко, Марко, Марко Поло… дзыть…
Наташа Черкашина, сама себе, как Кот чеширский, улыбаясь, снимает эту и другую ставит.
Томбе ля неже…
Ну, думаю.
Ресницы у нее, у этой Наташи, – длинных, густых таких ни у кого не видел я. Глаза за ними – как в засаде, и цвет глаз редкий – фиолетовый, ни у кого такого не встречал. Она за лето это повзрослела. Была девчонка, стала девушкой.
«Ох, уж кому-то повезет, – как-то сказала мне про Наташу эту Таня. – Очень хорошая девчонка. Парень нашелся бы достойный». Я согласился.
Таня смеется, смотрит на меня. И я уверен: только увидела меня, моя любовница пришла на ум ей сразу.
Белить они, оказывается, в тот роковой для меня день затеяли, как она, Таня, после рассказала мне, и начали с того, самого теплого в избе угла, где проживат Федосья Константиновна. А на время белёнки переселили ее, баушку, в Танину комнату. На одни сутки. Я как раз и угодил. Таня спала в ту ночь на чердаке. Как жаль, что крепко. Но я ведь этого не знал и – получается, что – не виновен.
– Весело вам? – спрашиваю.
– Весело! – чуть ли не хором отвечают.
А я стесняюсь, как всегда, скрываю, правда, это тщательно. Смело прошел, сел на свободный стул. Сижу. Чуть ли не ногу на ногу забросив. Ну, я ж яланский.
А раз яланский, что ж тогда робею? Поразмышлять над этим надо будет.
Один раз прозвучала песенка про снег, другой раз завела ее Наташа. На меня бегло и с лукавой усмешкой поглядывает из-за своих ресниц, как из засады, над моей лысиной, пожалуй, потешается.
Ну, ладно, думаю, и пусть.
Две девчонки, Катя Скобелева, будущая девятиклассница, и Маша Баландина, будущая семиклассница, – наперечет их тут, в Черкассах, Таня меня уже со всеми познакомила, – беловолосые, как опушившиеся одуванчики, танцевать вышли. Топчутся, шаркая туфлями по полу. Катя, постарше, водит, а Наташа подчиняется. По сторонам глядят – друг дружку ищут будто, потерялись.
Посовещавшись коротко, договорились, слышу, Таня с Дусей на Кеми, мостков напротив, встретиться. Мне все равно где – не подсказываю.
Предупредив других девчонок, что в клуб она еще вернется, пошла Дуся домой за давно уже купленной и ждавшей моего приезда бутылкой вина. Мы с Таней, попрощавшись с остающимися, отправились на речку.
Взяла Таня меня под руку. Мне это нравится. Идем.
– У меня, – говорит Таня, прижимаясь ко мне, – бутылку было оставлять нельзя. Папка, прознал бы, тут же выпил бы. А у него чутье на это.
– Через стекло?
– Хоть через что… Мама где спрячет, он найдет. Достать не может только, сердится… Как на полати он полезет?
– Я заходил, они играют в шашки.
Таня смеется.
– Проиграет папка или выиграет, все равно, – говорит, – бражки выклянчит, раз уж настроился… Еще и праздник же, Успение… Они и в шахматы умеют. Только тогда уж оба спорят… «Ты, – папка сердится, – пашто, Надька, мухлюешь?! Ферзё моё не тут стояло! Ты передвинула яё!»
– А мать? – спрашиваю.
– А мама: «Ну дак куда уж там, мухлюешь… Кто б говорил!.. Турку срубала у тебя, она стоит вон, как живая!.. И кто из нас, скажи пожалуйста, мухлюет?»
– Хорошие они у меня, – говорит Таня.
– Ага, – говорю.
– По ним скучать буду в Исленьске. Папка, не пьет когда… расцеловала бы его. Он очень добрый.
Платье на Тане голубое. Новое. Сама красивая – ей все к лицу, во что она бы не оделась.
Мурава мягкая – по ней шагаем. Как по ковру. Шагов не слышим. Как будто искры, высекаем из нее кузнечиков – те не стрекочут.
– Я, – говорит Таня, – тебя люблю. Сильно, сильно. Как хорошо, что ты приехал. Я рано так и не ждала, и очень рада. А ты?
– Что я?
– Ты рад?
– Конечно.
– А по тебе и не похоже.
– А я скрываю.
– А зачем?
– Такой, наверное, характер.
– Стану врачом, тебе его исправлю.
– Че долго ждать?.. Давай сейчас.
– Если уйдешь к какой-нибудь другой… я жить не стану. А как там Галя?
– Да нормально.
Катит по муравчатой улице навстречу нам смуглый мальчишка лет семи или восьми велосипедный, без спиц и без оси, сверкающий на солнце, никелированный обод, подталкивая его гибким талиновым прутом. Мальчишка босиком, с черными от пыли ступнями, в порваных на коленях сатиновых шароварах, в красной рубахе байковой навыпуск, в бурой кепке-восьмиклинке, то и дело сползающей ему на глаза с наголо, как у меня, стриженной головы – взявшись за козырек, рукой свободной всё ее, кепку, и поправляет – отправляет на затылок.
– Драсьте, – бросает резко, с нами поравнявшись, на нас не глядя.
– Привет, – отвечает ему Таня. – Кепку-то чью, отцовскую напялил?