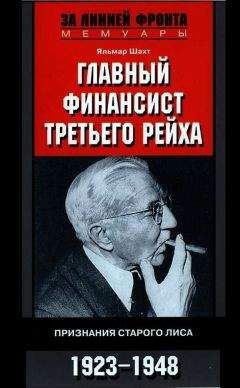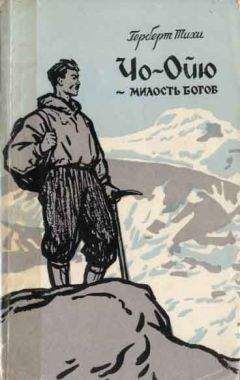Ещё один «кадр» – свидетельство дочери Ф. Б.: «Единственное, что мог сделать отец, – это помочь некоторым близким бежать из Киева, не ожидая, пока сосед по коммунальной квартире донесёт, что в их квартире скрывается еврей или „полуеврей“». И ещё один кадр – от Ефима Лазарева: «Вспоминается, как Федерация шахмат Украины перед чемпионатом республики 1959 года выпускала буклет, в котором следовало указать фамилии всех чемпионов УССР. Ряд киевских шахматистов выступил против того, чтобы там упоминался Богатырчук. С этим, однако, не согласился мастер Борис Ратнер (кстати, участник войны). Он подчёркивал: „Богатырчук немцам не служил! Он во время оккупации руководил больницей Украинского Красного Креста, где, в частности, прятал мою родную сестру и спас её, и не только её, от Бабьего Яра! Она и я до нашей смерти будем благодарны Фёдору Парфеньевичу!“»
Чемпион мира Борис Спасский в своём предисловии к «Доктору Живаго советских шахмат» не обошёл вниманием эти впечатляющие факты. Он пишет, как в 1967 году на Сочинском турнире встретил Бориса Яковлевича Ратнера, который вдруг обратился к нему с просьбой: «Я знаю, что вы едете в Канаду, на турнир в Виннипеге. Если встретите там Богатырчука, передайте ему от меня сердечный привет и благодарность».
Я был на презентации двухтомника Воронкова, проходившей в Государственной научно-технической библиотеке, которая приобрела особое значение, поскольку на неё прибыл Борис Васильевич, едва оправившийся после парализации. Это было и волнующе, и трогательно. Мне вспомнился концерт великого пианиста Оскара Питерсона, который он дал в Карнеги Холле, почти не пользуясь левой рукой. Диск с записью этого концерта трудно смотреть без слёз. Таким же незабываемым событием было и выступление Спасского. Два момента из него запомнились сильнее всего. Это – любовь к Фёдору Богатырчуку, с которым он встречался в Канаде, хотя такая встреча не сулила ему ничего хорошего. «Широта натуры и доброжелательность всегда покоряли людей, знавших Фёдора Парфеньевича. „Орёл не ловит мух“ – гласит латинская поговорка. Его свободный дух, его шахматная эрудиция и яркая публицистика были свежей струёй, пытающейся пробиться в наше затхлое, крепко законопаченное помещение…» И это, кроме того, – огромная благодарность автору двухтомника Сергею Воронкову, чей едва ли не 10-летний труд над ним равен подвигу.
…Что остаётся сказать? Сало Флор не мог совершить такой подвиг. Тут нет его вины. Никакой. И вся эта история – лишь одна иллюстрация «шедевров и драм» советских шахмат.
Глава 12. Что-то вроде авторской исповеди (вместо эпилога)
«Начинай не с самого начала». У кого это сказано? У Аристофана, кажется. А может, у Еврипида. Надо проверить. Обязательно проверю. Но, согласитесь, сказано-то навека. Не отсюда ли и пастернаковское: «Стоит на мёртвой точке час, не оттого ль, что он намечен?..» А с намеченного – на крыльцо, на ступени, чтобы увидеть «у всех пяти зеркал лицо грозы, с себя сорвавшей маску».
Идею попытаться написать книгу воспоминаний подсказал мне Дионисио Гарсиа, ветеран российского Испанского Центра, когда, приехав из морозной январской Москвы в тёплую Астурию, чтобы прийти в себя после болезни, я встретился с ним. Об этой встрече мы договорились ещё в Москве. Он поразил меня страстью к писательству, причём сразу на двух языках – на испанском и на русском, который знал в совершенстве и тонкостях, начитанностью, крестьянскими навыками и некой столичной выправкой. Я, говорил он, скорпион по западному гороскопу и Дракон – по восточному, угораздило, мол: жутковатые названия. Однако успокоился, когда выяснил, что и Скорпион, и Дракон – как знаки – вполне симпатичные существа. Он и был симпатичнейшим человеком.
В Овьедо он спросил меня:
– Над книгой будете здесь работать?
– Не собираюсь пока, – ответил я. – Попозже, может быть.
– А о чём хотите писать? Мемуары, кажется? О себе?
– Почему – о себе?
– А слова Достоевского в «Записках из подполья» не помните? «О чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе».
– Мне о других сказать хочется, – возразил я. – О тех, без кого я мало что значу.
Дионисио широко заулыбался:
– Ну, значит, и о себе. Иначе не бывает.
Он был доволен, что убедил меня, настоял на своём. Он всегда стремился настоять на своём – даже когда в конце тридцатых попал в числе испанских детей[62] в советский детдом, где пристрастился к чтению, к сочинению рассказов, в которых повествовал о своём детстве.
– А давайте-ка побываем вдвоём в моих родных местах, – предложил он.
– А где вы родились?
– Родился я в Серрапио. В тот же день, как я появился на свет, меня и окрестили. Принято так было в сельской местности. При желании или при особой нужде (например, когда нужно показать свою родословную), можно «пристёгивать» по очереди фамилии дедов и прадедов, так что я могу называться Дионисио Гарсия Сапико Гарсия Фернандес Фаэс Гутьеррес… Эк его! – скажет русский человек. Ну, что делать. Во младенчестве моём семья переселилась в деревню Орильес – это повыше в горы, два с половиной километра по извилистой дороге от Серрапио. Отец (его звали Эрминио) значил для меня много больше, чем мать, хотя любил я её ничуть не меньше. Он и сейчас у меня перед глазами: маленького роста, зато крепкого телосложения, как и всякий шахтёр-забойщик, небольшие усы. Когда я, побывав на родине, спросил у матери, какого он был роста, она примерилась ко мне взглядом и сказала: «Как ты», то есть 161 сантиметр (к старости растём вниз; теперь я ещё ниже). К нему тянулись люди. Вот вы иной раз пишете о музыке. Если не трудно, упомяните, что мой Эрминио играл на дудке (иначе – блок-флейте) и на волынке. По виду волынка, всегда богато украшенная бахромой, – более сложный инструмент, чем флейта, но по существу, по пальцовке, такой же простой. Представьте себе кожаный мешок размером с маленькую подушечку для сидения; в него вставлены несколько трубок: в одну, верхнюю, вдувают в мешок воздух, другая трубка, торчащая вниз, несколько сбоку, с пищиком для извлечения звука и отверстиями – для игры; третья трубка большая, тоже с пищиком, но без других отверстий, и значит издающая всегда один и тот же звук. Кожаный мешочек устраивают под мышкой, в верхнюю трубку губами вдувают воздух… Пока инструмент этот звучит, не исчезнет веселье и не исчерпается сила народной жизни.
Тут Дионисио не остановить! Его конёк. Рассказывает, как во время праздников – всяких, церковных и не церковных, – селяне собирались где-нибудь между домами, на малюсенькой площади; там речи рекой лились, пили сидр, вино, закусывали окороком и сыром, шутили, пели, танцевали, а надо всем – волынка. Чередуясь, играли двое или трое – те, кто умел. Доходила очередь до отца, и Дионисио преисполнялся гордостью: мой-то сейчас покажет, не только уголь добывать умеет, его музыка каждого заводит. Эрминио научил и сына играть на дудке (у братьев почему-то не получалось, или они просто не полюбили это занятие). Мы, говорит Дионисио, часто играли с ним народные мелодии, которые я до сих пор помню; могу вам сыграть хоть сейчас; от них веет глубокой стариной; слышал, что астурийцы – потомки древних кельтов, племён, обитавших в самой западной части Европы, за Рейном, включая северную Италию и северную Испанию; возможно, эти мелодии – от них.
Отец никогда не танцевал: танцы казались ему неподобающим серьёзному человеку занятием. С детьми был строг; наказывал их за проделки своим знаменитым ремнём молча, бесстрастно, деловито – так, как колют дрова или пол подметают. По вечерам, после ужина, он довольно часто читал ребятам книги. Прикрепив к стене листы бумаги с написанными его чётким почерком несколькими баснями, велел детям их выучить. Позже, уже в России, в детдоме, на уроках испанского языка и литературы, среди прочих басен задали выучить и те, отцовские.
В четырёхклассной сельской школе проучился Дионисио только год: в июне 1936-го началась Гражданская война. А 1934-й ознаменовался рабочими волнениями, которые в Астурии вылились в вооружённое восстание. Дружины рабочих заняли столицу Овьедо и удерживали её целый месяц. Восстание было подавлено, и, как обычно, начались аресты и суды. Дионисио был свидетелем такой сцены (ему шёл шестой год): «В наше село нагрянули полицейские; они приехали на своих длинных открытых машинах; стали быстро ходить по домам; явились и к нам, энергично шарили повсюду, открывали шкафы и сундуки, вытряхивали оттуда одежду, бельё… (Это Солженицын или Шаламов могли бы здорово описать!) Мать ходит за ними, жалуется, кричит, плачет – они не обращают на неё никакого внимания. Отец неподвижно и молча наблюдает. Наконец полицейские нашли большой моток бикфордова шнура, используемого в шахтах для подрыва скальной породы. Они допрашивали отца, он им что-то объяснял. Кончилось тем, что они надели на него наручники и увели. Мы, дети, смотрели на всё это примерно так же, как потом смотрели кино. Всех арестованных собрали на небольшой нашей площади и поставили их в круг, лицом друг к другу. Приведут нового – круг расширяется. Я смотрел на отца в наручниках и ничего особенного не чувствовал: я плохо понимал происходящее. Возможно, думал: у взрослых происходит что-то очень важное. Народ молча окружил арестованных. Если бы люди кричали что-то, протестовали, я бы запомнил это. В памяти осталась такая сценка: около высокого молодого парня из арестованных стоит молодая женщина, плачет и что-то говорит, припав к его плечу. Я слышал только обрывки разговора, но по движениям парня, по его лицу могу теперь передать его слова так: мол, перестань… люди смотрят… стыдно; ничего страшного… обойдётся… Отца осудили на несколько месяцев тюрьмы.