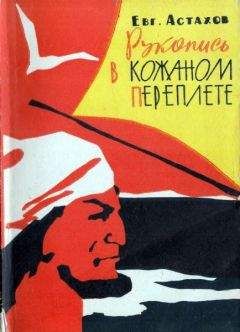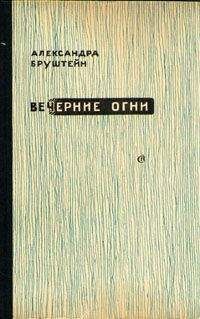***
Дом уже не горел, но тлел и дымился. Рассвет начался как-то незаметно, будто подкравшись – сумрачный, серый. Гостемилу казалось, что он просидел здесь, у забора, рядом с Диром, целую вечность в полузабытье. Он тряхнул головой и попытался подняться. Со второго раза получилось. В этот момент пошел дождь. Сперва не сильно, но затем все гуще и гуще, тяжелые крупные капли падали Гостемилу на лицо и плечи. Гостемил оглянулся. Дир не обратил на дождь никакого внимания. Улица стояла пустынная. Смотревшие на пожар разошлись досыпать, а для вершения повседневных дел было еще рано.
Гостемил расправил плечи, поднял лицо к небу и открыл рот, ловя капли. Тление вскоре прекратилось – дождь залил остатки огня. Словно кто-то дал сигнал – одновременно упали две поперечные балки с остатками крыши, и рухнула последняя стена, придавив часть забора. Гостемил, еще раз оглянувшись на Дира, шагнул вперед, пересек улицу, и вошел в палисадник. Крыльцо сгорело полностью. Слева, там, где была раньше кухня, валялись обгорелые плошки и торчала черная, обугленная печь. Справа, там, где была ранее занималовка, лежала просто груда обгорелого мусора. Петли от двери в спальню. А дождь все усиливался.
Что искал Гостемил? Он и сам бы не смог ответить на этот вопрос толком. Он точно знал, что именно он боялся обнаружить в том, что осталось от яванова дома.
Что-то хрустнуло под ногой, Гостемил отшатнулся, и половина подвальной крышки рассыпалась золой. Клуб очень едкого дыма вырвался из подвала. Там тлело, а возможно даже горело. Закрыв мокрой сленгкаппой нос и рот, Гостемил присел на корточки и заглянул. Разобрать ничего было нельзя, но именно сюда, скорее всего, отступил варанг смоленских кровей, загораживая собою ту, которую защищал. И именно там, внизу, состоялся последний бой, и там лежали тела, возможно несколько – варанг знал, что его не пощадят, и терять ему было нечего. Гостемил не помнил, рассказал ли все это ему Дир, или же ему привиделось в полузабытье. Это не имело значения.
Резко распрямившись, шагнул он в сторону, и еще раз в сторону. Правая нога наткнулась на что-то тяжелое. Он посмотрел себе под ноги. Поммель оплавился, лента сгорела, но сверд явно принадлежал Хелье – чуть уже лезвие, чем принято у воинов и боляр, чуть острее угол заточки. Видоизмененная спата, которую викинги из тех, что посуровее, из особых отрядов, предпочитали всем остальным видам свердов. С таким свердом щит не нужен, лезвие легко парирует любой удар. Гостемил некоторое время постоял над свердом Хелье, ни о чем не думая.
Но почему же, вдруг спросил он себя, сверд наверху, а не в подвале?
Подойдя снова к крышке, он потрогал остатки ногой, и они, остатки, упали вниз. Гостемил присел у края, а затем лег на живот, не думая об элегантной свите и белоснежной рубахе, закрывая нижнюю часть лица влажной сленгкаппой. Дым. Темно. Ничего не видно. Но он продолжал вглядываться. В углу подвала вдруг полыхнуло, загорелось особым огнем, какого не бывает, когда горит дерево, в лицо ударила волна жара, и внутренности подвала осветились. Стены черные, пол черный, много обугленных предметов. Тел не было. Рискуя упасть вниз – лестница сгорела и подняться обратно наверх было бы затруднительно – Гостемил, держась за обгоревшие края руками, подался вперед и опустил голову, оглядывая ту часть подвала, которая ранее была ему не видна. Тоже самое – обугленное, черное, бесформенное месиво из предметов. Тел нет. Дерево под грудью и животом затрещало, Гостемил дернулся, подался назад. Справа рухнуло перекрытие, ноги, бедра и живот зависли над подвалом. Он вытянул руки растопыренными ладонями вниз, удерживаемый только плоскостью грудной клетки, качнулся в сторону, закинул правую ногу на уцелевшую часть перекрытия, рванулся вверх и перекатился на спину.
Дождь перестал. Только что лил как из опрокинутого водосборника, и вдруг – нету. И, как по волшебству, где-то на юго-востоке наметился в густых новгородских облаках проем, забелело и засинело, и плавно но быстро город осветился солнцем.
Свет надежды.
Над головой что-то треснуло. Гостемил метнулся в сторону, споткнулся, упал – последняя державшаяся поперечная балка упала рядом с ним, подняв облако золы. Гостемил поднялся и шагнул в палисадник. Из обитого изнутри жестью водосборника потекла вдруг вода – тонкой, почти вертикальной струйкой. Дом сгорел, а водосборник почти уцелел. Гостемил подошел к водосборнику и подставил лицо под струйку. Сняв сленгкаппу, он протер ею руки, подставил их тоже под струйку, снова протер, несколько раз провел ладонью по шее со всех сторон. И услышал за спиной тявканье.
Собака, подумал Гостемил. Вроде Хелье говорил, что у Явана была собака – большая, глупая и трусливая. Нет, это Дир передал слова Хелье. Надо бы завести собаку. Собаку приятно гладить вечером, при свечах, когда за окном дождь или снег. Сидишь, гладишь собаку, читаешь фолиант, ноги положил на обитый чем-нибудь мягким ховлебенк. Можно, конечно, завести и женщину, но с женщинами не так, как с собакой. То есть, в некотором смысле женщина в доме гораздо лучше собаки. Не говоря уж о собственно плотском хвоеволии, которое временами просто незаменимо, женщины еще и хозяйничают толково, если их приручить вовремя, пока не сбежали. И поговорить с ней можно, если не очень глупая. Но у собаки свои преимущества. Собаки не очень требовательны, почти совсем не обидчивы, не рассматривают мужчину, как собственность – совсем наоборот. Требуют намного меньше ухода, чем женщины. Но все-таки уход нужен – и выгуливать собаку надо, и блох ей вычесывать, и воспитывать. Опять же – женщина может придти, провести с тобою несколько часов, а потом уйти по своим делам. А собака все время под ногами вертится, у нее своих дел нет. У женщин тоже своих дел, в общем-то, нет никаких, но они думают, что есть, и очень суетны в связи с этим. Ужас, какие глупости в голову лезут. И почему-то вдруг нечленораздельно закричал что-то Дир. И бежит сюда. Чего он сюда бежит, не видит, что ли, что я умываюсь.
Боясь спугнуть надежду, Гостемил медленно повернулся – сперва на четверть оборота, потом на пол-оборота. В общем, этого и следовало ожидать. Не такой дурак Хелье, чтобы дать себя так вот, запросто, прикончить.
Хелье стоял перед ним, с мокрыми спутанными волосами, с недовольным лицом, держа на руках женщину. У Хелье к женщинам слабость. А вокруг Хелье прыгала, поскуливая, собака – большая и черная – пытаясь лизнуть женщине голую пятку. Одна нога обута, другая босая – глупо. У Хелье был неэлегантный, изможденный вид. Ему надо хорошо выспаться и одеться в чистое, а в таком виде по улицам ходить как-то некрасиво. Неужто он сам этого не понимает?
Дир налетел сзади и больно ушиб Гостемилу плечо. Гостемил обиделся.
– Хелье! – закричал Дир.
– А помогите-ка мне, – сказал Хелье. – А то я устал. Она не тяжелая, просто у меня сейчас руки отвалятся.
Дир засуетился, примериваясь, с какой стороны лучше принять вес. Гостемил отстранил его и подставил руки. Любава, глядя на них обоих, подумала, что предпочла бы все-таки Дира, у него лицо проще.
– Что здесь было? – спросил Дир, обнимая Хелье.
– Не задавай праздных вопросов, – одернул его Гостемил. – Пойдем ко мне, у меня дом свободный, здесь недалеко.
Собака тявкнула. Гостемил посмотрел на нее сурово, и, поджав хвост, пес попятился задом.
Они вышли из палисадника на улицу.
– Дир, вытащи-ка сверд на всякий случай, – велел Гостемил.
– Не надо, – сказал Хелье. – Опасность не то, чтоб миновала, но вроде бы уменьшилась. Я думаю.
Любава на руках Гостемила хотела что-то сказать, но зашлась вместо этого кашлем. Но женщины упрямы. Откашлявшись, она еще раз попыталась что-то сказать, и снова закашлялась. А когда еще раз попыталась произнести что-то, получилось у нее сипло и неразборчиво.
Но она отчетливо помнила решительно все. Не как в Константинополе, смутными фрагментами, а все, до мельчайших деталей.
Вот уходит Горясер с ратниками. Полыхают стены. Дым застилает слоями, а затем клубами, все пространство вокруг. Хелье заходится в кашле, связанный, на полу. Любава понимает, что это конец, и уже равнодушна. Вот через приоткрытую дверь спальни, где тоже огонь, в занималовку вбегает пес Калигула и бросается к Любаве. Он лижет ей лицо. Любава ворочается, и пес зубами рвет веревки, связывающие ее руки. Усилием воли она заставляет себя не потерять сознание. Веревки не рвутся. И она кричит псу, кашляя – «К нему! К Хелье! Освободи Хелье!» И глупый пес сперва жалобно тявкает, скулит, но потом все-таки бросается к ховлебенку и, рыча, перегрызает одну из веревок, стягивающих руки Хелье, и именно эта веревка случайно оказывается главной – у Хелье освобождена рука. Хелье, цепляясь неизвестно за что – за трещины в полу, за неровности досок, за пыль – работая рукой и локтем, волоча за собой привязанный к ногам ховлебенк – приближается к Любаве. Ближе. Еще ближе. Она хочет ему помочь. Хелье делает еще усилие и дотягивается до ее ноги. В сапоге у Любавы нож, о котором она забыла – вовсе она не пыталась никого им ударить. Просто забыла. До голенища не дотянуться. Хелье, ухватив Любаву за пятку, сдергивает с нее сапог. Рукоятка глухо стукает об пол. И Хелье дотягивается до нее пальцем и со второго раза умудряется пододвинуть нож к себе. Кашляя, он садится с ножом в руке и режет веревки. Дым все гуще. Хелье освобождает сперва ноги Любавы, а затем руки. Любава на ногах. Хелье распахивает дверь спальни, но там тоже огонь, везде. Дверь в сад – засовы, сам же задвигал давеча, и огонь, огонь. В этот момент тяжелый светильник падает со стены, задевает сундук, и приземляется Любаве на ногу. Любава издает крик – нестерпимая боль – и припадает на одно колено. Этот крик услышали молодцы Горясера и, возможно, Дир. Ставня на окне в стене, смежной со стеною спальни, падает и зависает на одной петле. К окну не подойти – огонь. Хелье что-то говорит, кашляя и показывая рукой на окно. Любава отрицательно мотает головой и непроизвольно начинает плакать, кашляя. Хелье, кашляя, бьет ее по щеке. На какое-то мгновение она приходит в себя. И понимает, чего требует Хелье. Это невозможно. Но не все ли равно? Только больно будет очень. Хелье делает жест, показывая. Любава, припадая на поврежденную ногу, отходит назад. Хелье берет ее за предплечье и кисть. Игнорируя неимоверную боль в ноге, Любава бежит и прыгает в окно, и Хелье рывком усиливает инерцию, и получается, что она пролетает через окно в почти горизонтальном положении и падает на руки, на локти, на плечо. На траву. Несколько мгновений спустя Хелье выпрыгивает в то же окно и катается по траве – загорелась рубаха на спине. Не сильно. Любава пытается что-то сказать, и даже крикнуть, но он зажимает ей рот. Она теряет сознание. Она приходит в себя в соседнем палисаднике, в углу, у забора, за колодцем. Небо освещено пожаром. Хелье сидит рядом. Увидев, что она открыла глаза, он прижимает палец к губам. Они долго сидят за колодцем, молча, почти не двигаясь. Любаве хочется, чтобы все получилось, поскольку быть пойманной после того, что произошло – глупо. Она прижимается к Хелье. А он к ней. Ужас сковывает тело Любавы, сердце бьется очень часто. На улице кто-то кричит, переговаривается, ходит, бегает. Возможно, часть бегающих – ратники. Хелье гладит ее по волосам и шепчет что-то на ухо, успокаивающе. Грохот и треск, зарево, крики на улице. Дым, стелющийся по земле. Постараемся не закашлять. Грохот – упала балка. И так – долго, вечность, и кричат, кричат, и переговариваются, и обмениваются бессмысленными замечаниями совсем рядом. А потом все это очень медленно, но – начинает стихать. Дыма меньше, зарево не такое яркое. Голосов меньше. А потом Любава вдруг засыпает. Возможно, Хелье тоже задремал – когда она снова открывает глаза, Хелье не спит, но вид у него заспанный. А небо светло-серое. Утро. Хелье приподнимается и осторожно выглядывает из-за колодца. Распрямляется, кладет руки на кромку забора, подтягивается, осматривает местность. Кивает Любаве. Она пытается подняться и не может. Нога вдруг напоминает о себе острой болью. Любава кусает губу, морщится. Хелье наклоняется к ней и берет ее на руки.