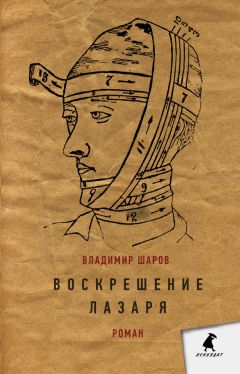Иногда хороводы, особенно внизу, где ленты длинные, рвутся на части, каждая тут же образует свой круг, но скоро сам собой восстанавливается прежний, большой.
Я не сразу обратил внимание, что люди в хороводах, когда они не держат соседей, не переставая танцевать, делают руками какие-то странные пассы. Будто они немые и так, руками, хотят что-то сказать, объяснить. «Хотят», конечно, неправильное слово, им необходимо, им обязательно нужно, чтобы их услышали, и они отчаянно боятся, что не только язык, руки их тоже немы. Я слежу за этими движениями. Я знаю, что они обращаются не ко мне, и все равно пытаюсь угадать, ухватить смысл, иногда мне кажется, что вот-вот разберу; но чего-то не хватает.
Сейчас я вижу, что в том, что они надеялись сказать, не было ничего сложного, просто я себе не верил. Чересчур мало это вязалось с благодатью летнего дня, с цветущим лугом. Мешало и другое: я видел, что они ждут кого-то и пока лишь тренируются, репетируют.
Давно минул полдень – самые жаркие часы – и оттого, что вчера прошла гроза, лило всю ночь, становится влажно, душно. Люди на холме по-прежнему слева направо и справа налево водят хороводы и по-прежнему время от времени что-то пытаются сказать своими руками. Но утренней страсти нет, они явно устали. Солнце еще высоко, когда на берегу реки появляется странная пара – мужчина и женщина. Они медленно бредут в сторону холма. Видно, что пара издалека, но откуда взялась, кто знает – то ли перешла вброд, то ли так и шла по нашему берегу. Заметил я ее поздно, уже в метрах двухстах от ближайшего хоровода.
И он, и она одеты в длинные серые хитоны, вернее в лохмотья, которые от них остались. Все настолько ветхое, что с трудом прикрывает наготу. Заметил пару и хоровод. Похоже, ее он и ждал. Да, ее, сомнений здесь быть не может. Те танцующие, что ближе, забыв про усталость, про нестерпимо жаркий душный день, исступленно, из последних сил делают в их сторону свои пассы. Теперь я и вправду понимаю каждый жест, каждое движение рук, мне даже кажется, что так было и раньше, чего тут понимать – все просто как дважды два.
Пара – наши общие прародители Адам и Ева; танцующие умоляют их не идти дальше, остановиться. Вспомнить, что заповедовал им Господь, и не приближаться к Древу познания, не начинать все сначала. Они плачут, говорят, что разве это кому-нибудь надо, ведь опять не будет ничего хорошего, лишь новые горе, беды, страдания… Перед ними – их дети, их плоть и кровь; неужели Адаму и Еве не жалко тех, кого они породили?
Сейчас, когда понял главное, я знаю и остальное. Одеяние Адама и Евы – остатки погребальных саванов, в которые они были обряжены и положены в землю. Почва сухая, и на ткани нет комочков грязи, одна пыль. Такая земля в Иудейской пустыне. Лен пропитался этой пылью и сделался серым, будто пепел.
Знаю я и про танцующих. Хороводы – поколения, каждое следующее более многочисленно, значит, длиннее и лента. Там, наверху, у райского дерева, лишь Каин со своими детьми, да Сим со своими. Ну и конечно, не оставивший детей Авель. Трогательно, что они трое тоже держатся за руки. Вообще все очень печально и очень трогательно. Как можно не услышать их мольбу? Ведь в хороводах нет никого, кроме их детей, собственного их семени. Но Адам и Ева как шли, так и идут дальше. Идут прямо к сверкающим на солнце, издалека таким манящим плодам.
Если смотреть со стороны, любой скажет, что перед нами красивый праздник. Нарядные бело-голубые матросские костюмчики, зеленая свежая трава, красные маки, солнце; важно, и что в отличие от рук, лица, обращенные к Адаму, к Еве, ко мне, тоже веселые. Но вот танцующие начинают понимать, что то, что они говорят руками, никто не замечает. Толку от этого нет и не будет. У них остался последний шанс. Словно по чьему-то сигналу делая балетное па, они все вместе, разом, поворачиваются, и мы теперь видим другое: потухшие глаза, измученные, искаженные нечеловеческими страданиями черты. Тела танцоров, где кожа не прикрыта матросками, сплошь в язвах, коросте, гноящихся незаживающих ранах, на них буквально нет живого места.
Но Адаму с Евой все равно, они продолжают подниматься, и лента за лентой, расступившись, пропускает их. Так наши прародители, минуя один хоровод за другим, постепенно приближаются к деревцу, и везде повторяется то же самое – беззвучные мольбы руками, лица, в которых нет ничего, кроме страха.
Едва Адам и Ева оставляли у себя за спиной очередную ленту хоровода, люди в ней останавливались, перестав двигаться, танцевать; они, будто птенцы на жердочке, задирали головы, вытягивали тощие шеи и начинали молиться. Слов я, конечно, не слышал, было чересчур далеко, но догадаться, о чем они просят Господа, свою последнюю надежду, было нетрудно.
Примерно в пять часов вечера, не позже – солнце еще и не думало садиться – лента хоровода, в которой как раз танцевали три их родных сына – Каин, Авель и Сим, – расступилась, пропуская отца и мать. Теперь между ними и деревцем была лишь одна преграда – обложившая его кольцом тонкая стена чекистов. Уже весь человеческий род молил Господа, чтобы хоть Он остановил сотворенных им Адама и Еву, не дал повториться первородному греху, но слова молитвы не доходили до Бога и напрасно было ждать от Него помощи.
После вчерашнего ночного дождя земля, ее поры были до краев наполнены водой. Сейчас, ближе к вечеру, разогретая солнцем и жарой, она немилосердно парила. От поднимавшейся вверх влаги воздух сделался плотным, темным, этот мрак солнце уже не могло рассеять – оно само будто сквозь грозовую тучу почти не было видно. Вдобавок вместе с испарениями земли воздух, как губка, впитывал тяжелый густой запах преющих, разомлевших на жаре трав, цветов. Новые и новые тысячи сынов и дочерей Адамова племени обращали свою отчаянную молитву к Господу, но дойти до Него она не могла. Едва вместе с дыханием оторвавшись от их губ, молитва, словно в перине, тонула в этой туче, которая не пропускала ее, наоборот, будто решив заменить Бога, вбирала в себя все их горести и беды, всю неподъемную, невыносимую тяжесть их жизни, всю безмерность их мук и страданий.
Переполненная влагой, запахами, перемешанными с грехами человеческими горестями, туча разрослась, раздалась и теперь покрывала собой весь холм. Лишь над вершиной, где росло деревце, было чуть светлее. Уже совершенно черная, она сонно и грузно лежала над самой землей, была готова вот-вот то ли опуститься, придавив несчастных своей тяжестью, то ли излиться на людей потоками их же собственных бед. Она бы давно излилась, но пока ее подпирало, словно маленькими столбиками держало дыхание молившихся людей. И все равно туча была так тяжела, что ее левый край – на дальней стороне холма, где никто не стоял, – начал медленно сползать в глубокую, заросшую тальником лощину.
Дерево окружали чекисты – лучшие из лучших сынов человеческих, избранные из избранных. В отличие от других потомков Адама, безвольно расступавшихся, стоило прародителям приблизиться, чекисты были готовы стоять до конца, отдать жизнь, только бы не дать первородному греху совершиться вновь. Но они безмерно устали. Меньше суток назад, вчера поздней ночью, когда уже вовсю лил дождь, они закончили воскрешение последних из своих соплеменников. Теперь, хоть они и стояли, сомкнув плечи, сурово набычившись, ноги одного, второго то и дело подгибались, отказывались его держать, и тогда строй чекистов вело. Конечно, я надеялся, тоже просил Бога, чтобы они задержали, не дали Адаму и Еве пройти к Древу их греха, но боялся, не знал, достанет ли им сил.
Вдруг, не доходя до чекистов каких-нибудь пяти метров, Адам и Ева остановились. То ли они не ждали, были напуганы отпором, то ли просто решали, что делать дальше. Плоды, которые их так влекли, были рядом, и я не верил, что они легко отступятся. Но Адам и Ева стояли, стояли, и тут, приглядевшись, я увидел, что их тела буквально ходят ходуном. Тогда я понял. Сами они не поддаться греху не могли, были слабы, но и они просили, молили об одном – чтобы Господь преградил им путь к страшному дереву. То, что они видели сегодня, что танцевали им, говорили руками бесконечные ленты хороводов, их дети, сплошь покрытые гноящимися нарывами, язвами, – не прошло даром, они ужаснулись жизни, которой положили начало.
Желая покаяться в собственных грехах, Адам и Ева стояли, рты их были открыты, чтобы выдохнуть обращенную к Господу молитву, но отродье проклятого Богом змея, когда-то соблазнившего Еву, своими длинными, гибкими телами наглухо забило их горло, гортань, бронхи, трахею, вплоть до самых легких и не давало этого сделать. Слова молитвы и покаяния, ища путь к Богу, спеша к нему, любой ценой пытались вырваться наружу; они мяли, корежили их нутро, скручивали несчастных и ломали, но змей засел прочно, и Адаму с Евой все не удавалось выхаркать, выблевать мерзкого гада.
И тогда чекисты запели. Они пели детскими, еще не ломавшимися, звонкими голосами, но они молились не о себе и они не жаловались на бесконечные тяготы и несчастья; честно и прямо они требовали у Господа справедливости. Требовали для Адама и Евы права обратиться к своему Создателю. Их ясные, чистые голоса создали в воздухе какую-то никогда не виданную мной вибрацию, с макушки холма прямо вверх, к Богу, разом поднялся мощный, бешено вращающийся столб воздуха. Он был похож на смерч, только сильнее любого, что мне в жизни приходилось встречать, и совершенно прозрачный.