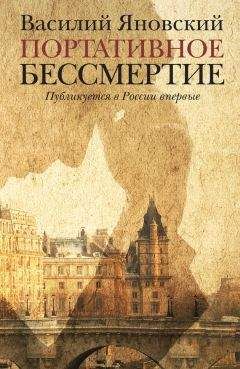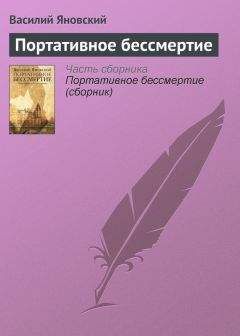Часть четвертая Полпути
Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.
1
Я возвращался обычно поздней ночью. Шел мимо запертого, незнакомого, темно-курчавого Люксембургского сада, равнодушно (полумертвый) нюхая очищенную, причастную тайнам, обновленную свежесть дерев и кустов. В эти минуты кто-то просыпался во мне, глубоко на дне тюрьмы слабо потрясал колодкою, скулил, покаянно требовал воли и смолкал, неуслышанный. Произошла странная вещь; я почти лишился инстинкта самосохранения. Соблазнительно-жутко! Как в чужом доме проснуться и целую вечность не уметь припомнить, где ты, куда головою лежишь… как в грозном бору, потеряв направление, петлить, кружа и отклоняясь! Сладостный отдых для души. Ибо нет ничего желаннее для нее, как быть потерянною. И в то же время нужно мужество, чтобы не ускорить шаги, не взмолиться, не напрячься и тем самым положить конец опасному блужданию. (Некий голос: «Дольше ты продержишься, ценнее твоя душа; этою же мерой в решительную минуту тебе отмерят и отвесят»). Перед музеем с дремлющими во дворе состарившимися, каменными героями – писсуар. Нищенски гудит газовый рожок, вода стекает с вешним шумом; на облупленных, жестяных стенках искусно изображены обнаженные торсы; надписи: “ Faites l’amour entre garçons… а bas les juifs… vive les soviètes… au poteau ” [156] (на гильотину), кого именно, не разобрать: целый столбец, карандашом, словно кинжалом, перечеркивается одно имя, ожесточенно выводится другое. Огибаю Сенат с тенями стражи; на противоположной стороне два ресторана с пестрыми абажурами уже потушенных ламп. Здесь усатые генералы между двумя блюдами, во время восстания, отдавали приказ о расстреле. (“ Vive l’humanité” [157] – залп). Врезаюсь в сеть загадочных улочек меж театром Одеоном и площадью Сэн-Мишель. Тут каждое здание напоминает морг. Вот-вот из старого решетчатого окна вдруг глянет, склонится голова Марата (как из ванны на картине Давида). В темных подвалах медицинского факультета (старая школа) шумит проточная вода. Там под кранами хранятся трупы; в глубоких ваннах плавают мертвецы – большие селедки, огурцы, – их мешают огромною ложкою. Когда подадут на стол, кожа будет беловато-мягкая, обработанная рассолом, как тончайшее шевро [158] или замша. Подают, убирают, меняют, взвалив на плечи полкорпуса, уносят в кабинет к просектору, – обыкновенные, вытренированные люди. Сторож моего отделения ничем не отличался от любого рабочего, контрмэтра [159] . И только глаза его – поражали. Он пил много – всегда, – не хмелея, но огромная масса поглощенного им алкоголя точно собиралась, оседала в его зрачках: ширились, вздувались, безумели. Один, в сумерках (мы уходили в пятом часу), он убирал, подготавливал к следующему дню, расхаживал меж столами, сортировал кости, черепа. Если ему дать пятерку, он выберет лучший труп: не старый, без внешних изъянов. Однажды с довольным лицом сообщил: «Девушка, есть настоящая девушка…» – и мы все потянулись гуськом к столу счастливцев. Она лежала вытянувшись, раскрытая, большая, белая, вдумчивая, каким-то непонятным образом утверждая свое целомудрие. Не знаю, откуда это пришло: январские потемки, мокрые носки (меж трупами на влажных каменных столах), но я вдруг нашел себя счастливым, благодарным, не одиноким, бессмертным. Что-то налетело, закружило, подняло меня из пота, заношенного белья, старых мыслей: «Хранила себя, отказывалась, и вот ранняя смерть, к чему было всё…» Я узнал: нужно, осмысленно, не пропало еще, не уплыло, – есть, есть продолжение, хотя бы в моей нежности и внезапной близости к ней. Спиралью: «Клянусь запомнить навеки эти верные слезы и посвященно служить тому же». Обойденные приставали к сторожу: «Вы не могли бы нам ее дать». В разных углах говорили на фривольные темы, рассказывали о странных формах извращения, представляли в лицах (и эта гнусность среды еще убедительнее подчеркивала значимость и реальность моего восхищения). Пока дежурный аудитор мощным стуком кулака не дал понять, что начинает урок. Маленький, жгучий корсиканец, он с дырявым чемоданом приехал когда-то в Париж. Его сородичи завоевали монмартрские притоны; он предпочел медицину, внося туда элемент кабака. Раз, проходя мимо нашего стола, он железным блюдцем (куда бросают лоскутья жира и кожи) нанес трупу такой удар, что сломал ему челюсть. Первый, «мой»: старик с гетманскими усами, картонный браслет у кисти (без имени, номер, палата). Бросил на пол этот последний след его существования, затем, поморщившись, поднял и спрятал в карман. («Нет, нет», – все кричало сердце.) Отчетливая, юная мускулатура, и только мозг – когда добрались – оказался разжиженною мазью. Я унес в кармане кристаллик его глаза, хотел вправить в кольцо (думалось: пропускал, отражал – целую жизнь, – не поведает ли о виденном). Но вскоре отказался от этой затеи и вернул камешек: хоровод скелетов плясал у моего изголовья, ночью, в нетопленом отельном номере. Мне и студенту-румыну достались ноги, две француженки работали над руками, а бедняге греку, Куляксизилису, гному со странным голосом, любившему стихи, – как самому слабому, выпало худшее: шея, мелкие мышцы и артерии, начинать труднее. А к Масленице грек заболел гриппом и нелепо скончался в госпитале. Стыдно вспомнить дешевую литературность жизни: на лекции в амфитеатре коллегам-стажьерам [160] подали на блюде его нищее сердце; мы потыкали деревянною планкой (что прижимают язык, заглядывая в горло) раненые, запухшие клапаны. “Pauvre enfant” [161] , – счел нужным бросить нам сторож; а мы, осиротевшие, благодарно и заискивающе искали его взгляда (в засаленном переднике он проходил, неся на плече тушу негра).
Я его потом встретил раз, назвал себя: конечно, не мог помнить этих сотен юношей, сновавших по его отделению. Он неохотно говорил о школе; это было у Сены в Духов день, – удил рыбу, – и помолодевший, измененный, он по-детски спешил рассказать о своей вчерашней удаче: поймал вот такого карпа. А глаза, добрые, старческие, слезятся (совсем не страшно, только жалко его). Я огибаю ночной факультет, оттуда, со двора, слышен автоматический лай собак, бездушный вой: живут в клетках при лабораториях, обездоленные, лишенные разных частей и органов. На rue Mazarine [162] призрак в цилиндре перебегает улицу и, бесплотный, пропадает в стенах, землистых, пятнистых, как ткани умершего от бубонной чумы.
А вот монастырь – подворье книгохранилища. Сколько весен (сирень, черемуха) отдано этим сводам. Я жил тогда в 6-м квартале, еще не знал Жана Дута и целыми днями дремал в Библиотеке. «О Пушкин, не оставляй меня. Ты оплешивеешь. Ты так прекрасен и юн. У тебя мягкие кудри и горячие губы. Пушкин, ты умрешь. Пушкин, я слепну. Прижмись ко мне, ненаглядный. Если сжалится Бог, глаза никогда не выцветут, волосы не побелеют. Пушкин, ты умираешь. Пушкин уже…» – пела Беатриче с льняными волосами, дитя, матерински баюкающее куклу; а в углу на пустой бочке мирно храпел Мефистофель. Яков Беме {57} шептал белыми губами древние формулы. Ориген {58} стыдил Тертуллиана {59} , Ангел Силесский {60} поверял тайны Мейстеру Экхарту {61} ; неприкаянно бродил Спиноза. Николай Федоров любовно рылся в библиотечных шкапах; Парацельс {62} зажигал свечи на уровне второго этажа, шагая по воздуху, как по тверди.
Я питался тогда кониной. Четверть стоила 1,30. Спал в студенческой комнатке под грудою лохмотьев на rue Boutebrie [163] . Конина пахла женщиною. Ко мне приходил Блаженный Августин {63} : протягивал корпус темной рабыни, без головы, с отпиленными конечностями. Я просыпался мокрый, крестясь и чертыхаясь. Скоро набережная; за спиною осталось дымное кафе, сомнительный клуб. Я хватал карты с непонятным интересом, непрестанно курил (без желания), щупал прикуп, лгал, впитывал гомон, похабные анекдоты, порождая ответно смрад и копоть. Китайцы играли в жуткие кости с цветными драконами; потные незнакомцы тасовали талмудическую колоду: таро… семьдесят две карты, где двадцать изображают буквы еврейского алфавита, а первый знак свидетельствует о человеке, повисшем меж небом и землею. Они ковыряли в носу, грызли ногти, ругались, отрыгали. Внизу – подвал – засели бриджеры: старики, вдовы, уроды. У них такие лица (изможденные, просящие), словно в прошлом, на столе у каждого, осталась длинная отыгранная масть – но уже нет перехода. Раз один упал замертво, его вынесли и после краткого перерыва продолжали игру: он был выходящим. Неподдельная (без солнца) грязь лежала на фигурах, камнях, картах, людях. Русские шахматисты кашляющими взглядами ловили клиентов; польские евреи любили французский беллот [164] – озабоченно варили суп из топора. Они говорили на новом санскрите, на могучем сплаве из многих языков. За выступом, развалившись на обитой кожею скамье, целовалась пара: оба крупные, большие, красивые. У дамы были красные и сухие глаза, кавалер поворачивал ладонью ее лицо – неторопливо, обреченно присасывался к зубам, деснам. Тут, напротив, сдают за пятнадцать франков номера – до полудня: кровать и два полотенца… а они сидели, сраженные, в цепком безмолвии. Тщетно такое насыщение, ласки больше не обманывают… или что-то другое, неописуемое, наконец стряслось с их душами… Только, крупные, сильные, хищные, вероятно неутомимые в любви, они почти лежали, непорочно обнявшись; у женщины красные, сухие глаза, он обреченно припадал к ее деснам (держал в большой ладони – длинное, узкое лицо), а время капало над головами. «Что же это, что?» – обжигало меня всего порою, выбрасывало на поверхность.