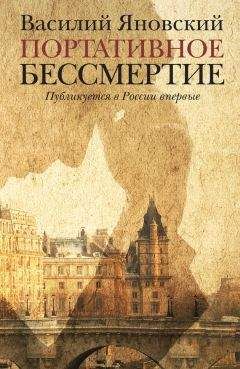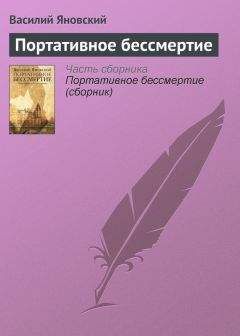Я его потом встретил раз, назвал себя: конечно, не мог помнить этих сотен юношей, сновавших по его отделению. Он неохотно говорил о школе; это было у Сены в Духов день, – удил рыбу, – и помолодевший, измененный, он по-детски спешил рассказать о своей вчерашней удаче: поймал вот такого карпа. А глаза, добрые, старческие, слезятся (совсем не страшно, только жалко его). Я огибаю ночной факультет, оттуда, со двора, слышен автоматический лай собак, бездушный вой: живут в клетках при лабораториях, обездоленные, лишенные разных частей и органов. На rue Mazarine [162] призрак в цилиндре перебегает улицу и, бесплотный, пропадает в стенах, землистых, пятнистых, как ткани умершего от бубонной чумы.
А вот монастырь – подворье книгохранилища. Сколько весен (сирень, черемуха) отдано этим сводам. Я жил тогда в 6-м квартале, еще не знал Жана Дута и целыми днями дремал в Библиотеке. «О Пушкин, не оставляй меня. Ты оплешивеешь. Ты так прекрасен и юн. У тебя мягкие кудри и горячие губы. Пушкин, ты умрешь. Пушкин, я слепну. Прижмись ко мне, ненаглядный. Если сжалится Бог, глаза никогда не выцветут, волосы не побелеют. Пушкин, ты умираешь. Пушкин уже…» – пела Беатриче с льняными волосами, дитя, матерински баюкающее куклу; а в углу на пустой бочке мирно храпел Мефистофель. Яков Беме {57} шептал белыми губами древние формулы. Ориген {58} стыдил Тертуллиана {59} , Ангел Силесский {60} поверял тайны Мейстеру Экхарту {61} ; неприкаянно бродил Спиноза. Николай Федоров любовно рылся в библиотечных шкапах; Парацельс {62} зажигал свечи на уровне второго этажа, шагая по воздуху, как по тверди.
Я питался тогда кониной. Четверть стоила 1,30. Спал в студенческой комнатке под грудою лохмотьев на rue Boutebrie [163] . Конина пахла женщиною. Ко мне приходил Блаженный Августин {63} : протягивал корпус темной рабыни, без головы, с отпиленными конечностями. Я просыпался мокрый, крестясь и чертыхаясь. Скоро набережная; за спиною осталось дымное кафе, сомнительный клуб. Я хватал карты с непонятным интересом, непрестанно курил (без желания), щупал прикуп, лгал, впитывал гомон, похабные анекдоты, порождая ответно смрад и копоть. Китайцы играли в жуткие кости с цветными драконами; потные незнакомцы тасовали талмудическую колоду: таро… семьдесят две карты, где двадцать изображают буквы еврейского алфавита, а первый знак свидетельствует о человеке, повисшем меж небом и землею. Они ковыряли в носу, грызли ногти, ругались, отрыгали. Внизу – подвал – засели бриджеры: старики, вдовы, уроды. У них такие лица (изможденные, просящие), словно в прошлом, на столе у каждого, осталась длинная отыгранная масть – но уже нет перехода. Раз один упал замертво, его вынесли и после краткого перерыва продолжали игру: он был выходящим. Неподдельная (без солнца) грязь лежала на фигурах, камнях, картах, людях. Русские шахматисты кашляющими взглядами ловили клиентов; польские евреи любили французский беллот [164] – озабоченно варили суп из топора. Они говорили на новом санскрите, на могучем сплаве из многих языков. За выступом, развалившись на обитой кожею скамье, целовалась пара: оба крупные, большие, красивые. У дамы были красные и сухие глаза, кавалер поворачивал ладонью ее лицо – неторопливо, обреченно присасывался к зубам, деснам. Тут, напротив, сдают за пятнадцать франков номера – до полудня: кровать и два полотенца… а они сидели, сраженные, в цепком безмолвии. Тщетно такое насыщение, ласки больше не обманывают… или что-то другое, неописуемое, наконец стряслось с их душами… Только, крупные, сильные, хищные, вероятно неутомимые в любви, они почти лежали, непорочно обнявшись; у женщины красные, сухие глаза, он обреченно припадал к ее деснам (держал в большой ладони – длинное, узкое лицо), а время капало над головами. «Что же это, что?» – обжигало меня всего порою, выбрасывало на поверхность.
Я порывался что-то сделать, изменить, но тотчас же потерянно замирал, испытывая чувство, знакомое, должно быть, рыбе (когда, вынырнув из дебрей аквариума на свет, она утыкается тупою мордой в мутное, толстое стекло, а дальше пятна и чудовищные, мешковатые тени.) Но чем глубже разверзалась трясина, тем слышней и слышней звучал навстречу предсущий голос. Спасение казалось совсем близким. (Почему небо мне открывалось, когда я падал навзничь). Шагаю дальше, мимо башен Консьержери {64} ; «вокзальный» трепет подступает ко мне. Здесь, в Palais de Justice {65} , судили Марию-Антуанетту; усталая, к концу дня, она попросила пить, увы, не нашлось охотника удовлетворить эту просьбу. (В подвале Ипатьевского дома стены забрызганы мозгами целой семьи). Ее везли по rue St. Honoré [165] на казнь; с крыльца храма St. Roche [166] молодая женщина харкнула себе на ладонь и бросила плевок через головы толпы в королеву. Сансон {66} – по пятнадцать франков – не мог нанять достаточное число повозок: пришлось обещать каждому вознице пять франков чаевых. Толпы любопытных всегда запружали площадь во время экзекуции, но раз хлынул сильный проливень – и зрители разбежались. Перехожу Pont-au-Change [167] ; внизу Сена с опрокинутым городом и маслянистыми пятнами отраженных огней; откуда-то слева (с моря или Лувра, где потешили гугенотов) тянет ледяным, набатным ветром. К площади Шатлэ, где ночные автобусы, такси, подкатывают крайние волны Центрального рынка: грузовики с ящиками, скотом, бабы. Спускаюсь в подземную уборную. Там вповалку, на каменном наслеженном «паркете», под относительным кровом, спят нищие. Вода течет из кранов, остро пахнет, – опять те же рисунки – карандашом на кафеле стены; мочусь над чьей-то головою, жмурюсь, стыну, дремлю, вспоминаю. Вдруг тихая зависть шевелится, крепнет в душе: о, если бы и мне на его место! Кротко спать у ног испражняющихся, укрыв лицо картузом, ничего не желать – на завтра. Знакомый образ прорезает тьму: веще вздрагиваю. Вижу, вижу тебя, моя смерть. На ступеньках храма, вокзала или библиотеки. Вечером повалят юные (что готовятся к экзаменам). Как помнишь… Сколько весен и сиреней, сколько десятков весен я тоже провел внутри под сводами, где священная тишь и скука. Теплым, плодоносным вечером, неповторимо пахнущим детством, выходили мы, последние, на волю, жадно дыша, порываясь на грех или на подвиг. В нише запертых ворот обосновался бродяга, понурившись, спал; однажды я разбудил его: сунул франк; “ Non, non ”, – обиженно, старчески капризно запротестовал он. Я забрал монету и отошел, оглядываясь, а он приподнялся и кивал мне старчески-святой головою, ободряюще смеялся, будто светло благословляя близкого на трудный путь и славное прибытие. «Смотри, смотри хорошо, смотри же», – толкало меня сердце, и я веще озирался, глотая невидимые слезы, безотчетно, безропотно кланяясь в ноги. А затем морг: нам тогда демонстрировали morte subite – внезапную смерть. Полицейские нашли под забором тучного, заплывшего нищего – и запрашивали о причине смерти. Талантливый доцент, ведавший нашими практическими занятиями, высмеял наивность жандармов, считающих необходимым наличие особых причин для смерти: не догадываются, что нужны специальные обстоятельства – для жизни. «Вы видите, господа, мы почти ничего не нашли!» – смачно декламировал (любил свой предмет; заставлял нас садиться поближе к столу: следует привыкать к запаху… «Человек – это дурно пахнет», – определил он в шутку. Запах же в перегретом зале был обморочный, ничего похожего с анатомическим театром: тела мокнут там предварительно в дезинфекционных растворах). Правда, мы обнаружили красноту клапанов сердца, легкое изменение цвета печени, если взять под микроскоп эту почку, то вы узрите некоторую гипертрофию соединительной ткани: начало склероза. Ноги чуть опухли, в легких известный отек. «Вы видите, господа, это неопределенно, каждый симптом в отдельности банален, встречается сплошь и рядом у сорокалетних, не может объяснить последнего исхода! – голос преподавателя стал торжествующим. – Но все это, сложенное вместе, и определяет состояние, которое мы именуем misère physio-logique [168] . Чуть-чуть здесь, слегка там, немного рядом… и достаточно любого, не поддающегося учету толчка, чтобы выбить, растрясти колесики, застопорить машину. Это случается обыкновенно после обеда, ибо в желудке мы почти всегда находим следы его: остатки макарон, с пол-литра красного вина! – («Смотри, смотри хорошо», – кротко сжималось сердце.) – В период жестоких холодов или катастрофической жары…» Тут ученый, случайно обернувшись, опешил и развел руками, а мы расхохотались: один из сторожей, вообще отличный мастер и помощник, был нестерпим при демонстрациях. Спешил ли он скорее отделаться или просто не мог (забывал) работать медленно (волнуемый, как добрый конь, посторонними), только в продолжение одной минуты – так обдирал очередной труп, что профессору уже ничего не оставалось (ни показывать, ни объяснять); это и произошло опять – на соседнем столе, где сторож «подготовлял» следующий номер. Об этом огромном, розовом, детски улыбающемся увальне рассказывали, что однажды в сумерках, заглянув пьяным в лабораторию, испытывая голод, он очистил привлекшую его внимание тарелку с неопределенной снедью (как потом выяснилось, извлеченною из желудка покойника).