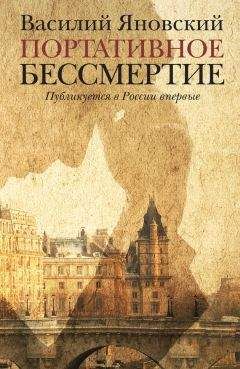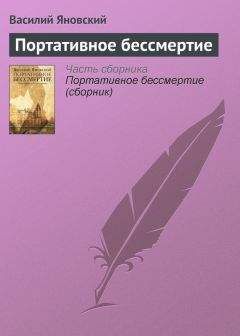К сожалению, это не идет впрок организму, как слишком острые идеи философов и героев вредят обществу. Но, однако, здесь рычаг возможной бессменной молодости, постоянного обновления – сей порыв нужно использовать, организовать…» «Чье это?» – брезгливо осведомился Свифтсон. «Англичанин один, Бам-Бук». – «Бам-Бук? Странная фамилия!» – «Псевдоним», – неохотно пояснил я. Внезапно он подсел ко мне и, почти гладя, касаясь плеча, умоляюще зашептал: «Скажите, скажите, помните, давно, у адвоката, в день отъезда Жана, вы сообщили, что ничего еще не совершили хорошего. А вам за тридцать. Что это, гримасничание или действительно такая темень в глазах? Во имя Господа, не откажите мне в доверии!» – очень волнуясь, почему-то настаивал Свифтсон. «Отчего ж, отчего ж, – сконфузился я, стараясь вспомнить. – Тогда действительно так считал, но теперь произошли перемены: найдется нечто стоящее и у меня». Он грустно попросил: «Вы не можете со мною поделиться?» – и страдальчески уставился. «Охотно, ко мне иногда приходит жалкая женщина с отрезанной грудью, способная вызвать ужас, отвращение, и я ее ласкаю». Свифтсон вздрогнул, строго поглядел, но я не шутил, вдруг лицо его искривилось и он жалостно, нежно заплакал. «Кстати, – поспешил я переменить тему. – Кстати, давно собираюсь вас спросить, вы не можете мне напомнить слова пророка Исаии: там, где про волка, что ляжет рядом с барашком… или сообщить место, главу». Свифтсон приподнялся: «Я помню их, одиннадцатая глава. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море… – и сделав паузу, Свифтсон добавил: – Вы знаете, вы знаете, мы еще будем с вами рядом, вместе, определенно, сердце мне говорит». Я почувствовал, как челюсти мои свела судорога, и, не ручаясь за свой голос, протянул ему руку с признательностью и благоговением. О, если бы меня в ту минуту взяли за ворот, встряхнули и поволокли! А может, Свифтсон был прав: я снова ушел бы, тогда навсегда. Руку он пожал сдержанно: блюл какие-то сроки или не доверял еще. «До свидания, до свидания!» – повторил, вкладывая особый смысл в это избитое слово. Однажды ко мне еще наведались Дингваль и профессор Чай (вероятно, подосланные Свифтсоном). «Не беспокойтесь, газа не открою, – грубо успокоил их. – Собираюсь еще долго резвиться». Они предложили, неловко, запинаясь, вместе помолиться. Я их огорчил отказом: мне молиться при свидетелях – как париться в общей бане.
3
Знакомый госпиталь. Сюда на хирургическое отделение снова записалась Николь: будут резать. Встречает меня с виноватой, пытливою улыбкой. Растерянный, пробуждающийся взгляд: полукругом вниз, давно привлекший мое внимание. Молча сижу у изголовья. Старательно целую, – ее щеки горделиво розовеют.
Я презираю палату в этот час (посетителей). Мне стыдно без мундира (халата) здесь. Чувствую робость, самолюбие страдает: почти заискиваю в каждом санитаре, сестре милосердия. Нечто подобное я испытал в детстве, когда в доме запахло эфиром, камфорою. Ложечка в стакане с прозрачною водой (а на дне снежинки хины, салицилла). Термометр, ловко сбрасываемый. Чужая женщина, профессионально суровая (как шулер благороден), высовывается из спальни матери, отдает приказания: наколоть лед, раздобыть кислород. О, потерянность, слабость и детская доверчивость. Я учел то состояние, сделал вывод. Раньше мечтал стать носильщиком на вокзале или пограничником, проверяющим визы. Привыкнуть к вещим гудкам, уничтожить ночь, приобщиться к рубежам времени и земель (так артиллеристы похрапывают на ящике со снарядами). У почты мне хотелось разносить конверты с заграничными марками и многими штемпелями (их люди с таким сложным чувством – избавление! – ждут). Стук Морзе на телеграфе. Артельщик в банке блистательно – четко, как палач с осужденными, манипулирующий пачками кредиток (значительными долями жизни каждого)… Все они стоят у главных узлов нашего быта, спокойные профессионалы, среди суетливых, растерянных любителей. Могильный бой часов и сигнальные огни им больше не страшны. Потом мне захотелось – в суд, полицию (тогда в соседней квартире делали обыск, мерзкие сыщики петлили у подъезда). Я понял: опасность – и тут надо получить иммунитет, спуститься в колодец, и ядовитые газы станут привычными для легких. Но, понюхав эфир, камфору, поглядев на чужих людей, бесцеремонно распоряжавшихся нами, притихшими… (Вечером к дому подъезжали важные доктора, жуликовато блестя очками и лысинами, проходили в комнаты. Сразу зажигались все лампы, мы замирали на цыпочках, услышав обрывок латинско-русской фразы, вытирали губы, как после причастия…) Посетив лазарет, сойдя в мертвецкую, – сделал выбор! Я стал лекарем, вероятно, единственно для того, чтобы всячески подготовиться к внешним атрибутам смерти, усвоить целиком ее технику, сохранить независимость – в эти последние минуты. «Смерть – самое неизбежное и трудное из того, что мне еще предстоит, я хочу стать своим человеком в ее прихожей» – вот приблизительно идея, которую я пронес и осуществил через десятилетия братоубийства, голода и любви. Сколько раз я держал за руку агонизирующего, изучая все его гримасы и блики (словно ученик виртуоза, что должен за ним повторять упражнения). Меня влекла и мучила всегда нищая простота, неубедительность, с какою жизнь превращается в материю. Предполагаешь: вот биология до этой черты, а там – камень! На самом деле – неопределенность! Так пастор возвещает влюбленной, целую ночь прогрезившей паре: вы обручены… фотограф решает: готово, снято… или на экзамене (месяцы зубрежки!), после минутной беседы, профессор заявляет: вы прошли… Не веришь – ничего не случилось осязаемого, резко отделяющего эти два разных мига! Только со временем, шаг за шагом, по интимным отношениям, новым условиям быта четы или по отдыху в занятиях, появлению следующего курса лекций у студента, – эта метаморфоза становится действительною. Так и смерть. Вы держите руку. Дыхание уже пресеклось. Вдруг – несколько судорог тела (от мертвых пахнет пеленками). Это сердце – иссякло. Свершилось. Но что именно… Как установить разницу между собирающейся замерзнуть водой в 0? и тающим снегом (тоже в 0?)… «Скончался», – говоришь (подобно пастору, профессору, фотографу). Но кругом и в тебе нет уверенности, понимания, хотя родственники плачут уже (там у венца – сразу начинаются поздравления). Теперь я не узнаю́ палату: никогда не заходил в качестве просителя в эти часы визитеров. Осенний, предвечерний, домашний почти уют, группы, свои муравьиные заботы, планы, гнев. Обсуждение: не министерства и доктрин, а 1/10 градуса температуры. Благоговение перед каждым лично испущенным ветром, интриги по поводу обмена этого халата на другой, лучший, принадлежащий выздоравливающему или умирающему; порицания, злоба, сплетни, благодарность, заискивания и надежда, надежда – еще; подлое обрастание вещами, свертками, тяготение к долголетнему комфорту – на склоне вулкана. Все близко, но далеко не ясно – ускользает; среди хворых много таких, что могли бы уже выписаться, а из посетителей некоторым впору улечься на койку, – если бы решились, поняли, условились. Даже границы смерти растяжимы. Некогда критерием было дыхание: к устам прикладывали зеркальце. Потом пульс, сердце; еще ждут двенадцать часов. (Почему не двенадцать суток или веков?..) О чем говорить с Николь?.. Я старательно ее целую на прощание. Неловко вручаю подарки: мужчине я знаю, что нужно. Выбрал цветы, шампанское и варенье. Кружу по светлому лабиринту неописуемого двора, обхожу знакомые – и все же неразгаданные – корпуса: отделяясь, прощаясь, сознательно отряхая прах с ног (чужое, мимо). Вот часовенка. Сюда из мертвецкой, холодным утром, санитарки, переругиваясь (чья очередь, кто обязан), подадут выпотрошенный остов Николь. Здесь, при помощи более или менее позолоченного гроба, свечей, попов, ее частично восстановят в людском звании; отворят другие двери, через особые ворота ее вынесут на другую, тихую улицу, где чинный катафалк, траурная толпа, степенные речи и господа с розетками в петлице. Это две разорванные цепи, два ряда (письмо – до почтового ящика и после). Палата, операционный стол, агония – одно; затем гроб, церемония, кладбище, склеп – другое. А между ними: таинственная дыра, несвязуемая прорва, Ниагара. Корпус за корпусом, задние калитки, коридоры. Здесь, в первом этаже, мы принимали новых кожных больных. Орава обнаженных существ вваливалась, расцвеченная сыпью и язвами. Поток мужчин разбивался сразу на пять-шесть очередей у наших столиков. Затем кагал женщин; опять мужики, до пояса голые, ловко придерживающие подбородком задранную рубаху и коленями расстегнутые брюки; снова бабы: скученные, в белье с распущенными бретельками и шнурками, со сползающим чулком. В зале висело огромное трюмо. Часто его завешивали простынями (того требовал наш ординатор), но иногда забывали, и многоголовое чудовище (подземное, морское) удваивалось, уподобляясь фантастическим грозным растениям, гадам с раскраскою бабочек, друг друга пожирающих. Огненные букеты, розы, пурпурные лепестки и бутоны терзали бедное людское тело, пришедшее на эту землю по своим личным делам. Сконфуженные, странные субъекты, по ошибке затесавшиеся в это отделение; бледные детки с глистами, чешуей коросты; экзема младенцев – зарево костра, язвы нищих; аляповатые пионы банальных поражений (жар, краснота и боль). А между ними: синеватое пятнышко туберкулеза, скромный бледно-розовый мрамор второго сифилиса, пустяшный, серый бугорок рака… достойно держали себя: без шума, важно, с тою врожденной грацией, которая отличает дам большого света (так же подлинный ревизор остается неразгаданным среди треска Хлестаковых). «Не царапнул ли я случайно ногтем, только всего?» – выражает надежду несчастный, с отвисшим, молочным брюхом. Нет не ноготь: «Вы видите, это твердо, сухо и не болит, а в паху кулак собранных железок», – и шеф, опустив голову, на минуту почтительно смолкает, будто франк-масон, в толпе узнавший вдруг каменщика-33 {79} . Вот с поднятым воротником пиджачка продрогший шофер: пожелтел, отощал, волнуется, видно, всю ночь не спал (гадал, молил), утром чем свет без завтрака собрался, прождал два-три часа, нервно шагая, сторонясь тех, страшных, еще надеясь спастись, выскочить. Мулат, пучковолосый, стройный, литой. Когда он вошел, голый по пояс, мы услышали шум ветра в двенадцать баллов, хлопание парусов, крик за штурвалом и залп. От него пахло океаном, солнцем, тропиками. Он полз на капитанский мостик с ножом в зубах, грузил хину, играл в кости. Давно уже не плавает, живет во Франции. Шесть лет тому назад в последний раз проходил Панамский канал. «Бацилла Гансена» {80} , – сказал патрон. Кругом все дрогнуло, зарокотало. «Проказа, проказа», – пели вихри и смерчи. Белая длань судорожно тянулась из песка, дервиши плясали у заброшенного колодца. Мулат вышел, не сгибая лоснящейся спины, и сразу ветер, дувший от его разведенных (как иглы особых аппаратов, пропускающие электрический ток) волос, стих, каравеллы растаяли. Я последовал за ним, под каким-то предлогом снова ощупал клеймо на шее и на прощание пожал руку (может быть, затем, чтобы иметь уже право отказывать некоторым в рукопожатии)… Розы, пионы, костры тел.