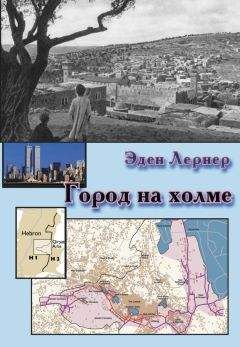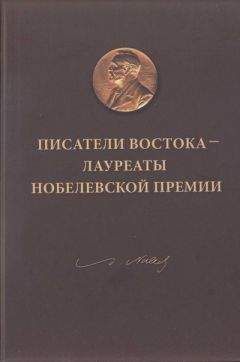− Ты хочешь, чтобы я музыку поставил?
−Я хочу, чтобы ты относился к своей жене, как к человеку. Как к человеку, понимаешь? Она у тебя вещь. Красивая, любимая, драгоценная, но вещь. Мне это не нравится.
− Что именно я должен делать по-другому?
Моего совета он хоть спрашивает. Больше никто ему не советует. Кому охота быть посланным “абайта на три буквы”. Подозреваю, что если бы наши праотцы встали из гробницы тут неподалеку и вздумали вмешиваться в его дела, то получили бы такой же короткий и категоричный ответ, пусть по форме и более вежливый. Его рука скользнула вдоль малкиной спины и задержалась на талии. Ну что, его можно понять, талия там такая же соблазнительная, как вся хозяйка. Четыре месяца назад родила, уму непостижимо.
− Я тебе фразой из Талмуда отвечу. Бошта шель иша меруба мишель иш[242].
Глаза в зеркале заднего вида удивленно расширились, а я не удержалась и рассмеялась. Вид у него был такой же, как у этих идиоток на блокпосту зимой, когда я начала “снимать”. Я лишние десять лет проживу только за один этот момент безмерного удивления. Ничего, ему полезно.
− Не понимаю, где ты видишь проблему. Гиора, например, все устраивает, а он ей родной отец.
Гиора! Нашел себе моральный авторитет! Нет, я не хочу сказать ничего плохого, человек он в целом приличный, и дочь любит, и много ей помогает. Но за всю свою долгую и разнообразную личную жизнь я не видела такого ловеласа и бабника. Из России, из России, а даст фору любому сабре. Там каждые полгода новая любовница, все не меньше чем на двадцать лет младше и одна другой красивее. Конечно, на этом фоне Шрага смотрится очень даже. На себя лично он практически не тратит, выполняет не слабую долю домашней работы и ухода за детьми, и при этом не то что не ходит, но даже не смотрит налево.
− Я тебе так скажу. Если Малка плачет оттого, что ты сказал – ты уже неправ. Все. Разговор окончен. Как избежать таких ситуаций, я уверена что ты разберешься. Твоя же жена. Хочешь резко высказываться – пожалуйста. В синагоге, на стройке, даже мне, ради Бога. Но не Малке. Ты главный человек в ее жизни, она тебя любит без памяти и чтит больше, чем тебе полезно, и все, что бы ты ни сказал, воспринимает как абсолютную истину. Даже если ты несешь абсолютную чушь.
Может быть, я сама слишком резко высказалась, надо бы как-нибудь смягчить. В конце концов, он действительно на высоте как муж и как отец, и любит Малку, и со всем справится. Слова застряли у меня в горле, потому что совсем близко раздались выстрелы, справа от меня лопнуло стекло, я инстинктивно подняла правую руку, закрывая лицо. Где-то между подмышкой и грудью я почуствовала резкий ожог, потом стало холодно и мокро. Детский плач, выстрелы и треск пластмассы слились в один непереносимый шум, что-то разбухало у меня внутри, затрудняя дыхание. Я перегнулась через сидение, нависая над автокреслами с детьми и цепляясь за спинку сидения непростреленной левой рукой. Какое счастье, что Малка села спереди. Но почему у меня не получается говорить? Я же пытаюсь сказать, что я держусь, я в порядке, почему выходит какой-то клекот вместо слов?
* * *
Я очнулась на улице. Темное звездное небо над головой. Правый бок как деревянный, я его не чувствую. И маска на лице, и толстый голубой шланг из маски. Так, значит, я жива. Поскриплю еще, есть ради кого. Звезды над головой качнулись и канули во тьму. Их затмила мигалка от амбуланса. Из темноты возник Шрага, я еще никогда не разговаривала с ним лежа на спине. Он еще ни разу не казался мне таким огромным. И никогда его лицо не было таким гранитным. Он взял меня за руку.
− Я поеду в больницу с тобой.
Счас! Он всерьез уверен, что врачи не справятся без его пригляда. Вот самомнение! Но если он собрался со мной в больницу, значит, больше никто не пострадал. Пусть идет к своей жене и детям, утешает их и поддерживает. А мы с врачами как-нибудь справимся. Я погладила его по руке и как могла энергично замотала головой.
− Ты не хочешь, чтобы я ехал?
Что бы такое придумать, чтобы он чувствовал, что он мне помогает? Я подняла вверх левую руку и нарисовала в воздухе контур кошачьей головы с треугольными ушами.
− Аттикус?
Я закивала.
− Да, да, конечно.
Пока меня не погрузили в амбуланс, я держала его руку, не могла себе отказать. Мне было так холодно, а она была такой теплой. Я всегда гордилась тобой, Шрага-в-какой-то-степени-бен-Офира. Даже когда у меня не было для этого никаких видимых оснований. Там, где все видели агрессивного необучаемого мальчишку с прескверным характером, я разглядела самый что ни на есть звездный материал. Бесстрашный, бескорыстный, не способный на обман, ни признающий слова “не могу”. Ни с кем другим я бы не стала возиться. Никого другого не пустила бы в свое сердце и свой дом. Любого ребенка я бы закрывала от пуль, любого, слышишь, меня отец так воспитал, что ни один человек не рождается преступником и террористом. Но твои дети – любимые. Потому что твои.
Передо мной возникла высокая седая женщина в темно-зеленой хирургической спецодежде.
− Вы сын?
− Да.
− Мы ничего не могли сделать. Тотальный гемоторакс и спадение обоих легких. В правом боку у нее было четыре пулевых отверстия, но пули мы извлекли только две.
Две пули. На одной было написано – Реувен Стамблер. На другой – Виктория-Офира Стамблер. Она их остановила.
Я вышел на стоянку и с ужасом понял, что не помню, где припарковался. Такого со мной не было еще ни разу. Надо ехать, забирать кота, договариваться с хеврой кадишей[243]. А Ронен? Я даже телефона его не знаю. Звонить наугад в ташкентский бейт-хабад. Здравствуй, Ронен, я угробил твою мать, не сумел ее защитить. Как жить после этого? Я отправил Малке сообщение, состоявшее из трех слов: “Благословен Судья праведный”[244]. На большее меня не хватило. Посреди общей для всего народа радости они все-таки устроили мне настоящую Катастрофу, без дураков. Я кусал губы, рот наполнился кровью. Вкус железа, вкус смерти. Накба. Моя персональная накба.
Квартира еще не знала, что случилось с хозяйкой. Невидящим взглядом я скользил по книжным полкам, по фотографиям и картинам на стенах. Аттикус подошел, встал на задние лапы, упершись передними мне в ногу. Типа, корми, раз пришел. Я стал шарить по кухне в поисках корма и наконец наткнулся на неначатый мешок. Это был дорогой, органический корм специально для пожилых животных. К мешку был приколот конверт, на котором офириной рукой было написано мое имя.
Шрага, радость моя, если ты читаешь это письмо, значит, все получилось, как я хотела. Согласись, если бы не ты хоронил меня, а я тебя, было бы в сто раз хуже. Я оставила завещание в нотариальной конторе такой-то, но надеюсь, что у моего сына все-таки хватит ума и такта не оспаривать мою последнюю волю. Я оставила ему квартиру, а тебе библиотеку. Моему сыну она не нужна, ХАБАД заменил ему весь остальной мир, так что книги я оставляю вам с Малкой. Там антикварные издания из предвоенной Европы, автографы известных людей. Все это мой отец много лет собирал, это единственная ценность, которую ему удалось вывезти из Германии. Некоторые издания сохранились только в экземплярах, вывезенных в Палестину, потому что наци чистили государственные и частные библиотеки, а то, что они не успели вычистить, пропало во время бомбежек. Немецкие коллекционеры за каждый такой экземпляр готовы платить сумасшедшие деньги. Обратитесь в немецкое посольство к атташе по культуре и вас свяжут с нужными людьми. Прошу тебя, не обижайся на мое решение. Я успела хорошо тебя узнать и понимаю, что эта квартира все равно тяготила бы тебя, ты бы все равно ее продал и отдал деньги Ронену на его Бейт-Хабад, тем более, что они в трудной ситуации пришли Малке на помощь. Спасибо тебе за то, что последние годы моей жизни были озарены любовью. Спасибо тебе за Малку и ваших детей. Мне было тепло у вашего очага. Будьте счастливы. Офира.
Почему она оставила мне это письмо в таком странном месте? Она права. Она действительно хорошо успела меня узнать. Теперь, когда ее не стало, это квартира Ронена. Мне нечего здесь делать, только кормить кота и поливать растения. Я никогда не стал бы шарить по ее шкафам, и она это знала. Поэтому и оставила письмо там, где оставила. Я отыскал клетку, собрал миски, корм, лоток, наполнитель для лотка. Отнес все, кроме клетки, в машину и вернулся наверх.
− Ну что, поехали. Будешь ты теперь кот-поселенец. Как тебе такая переспектива?
Хевра кадиша согласилась отложить похороны до приезда Ронена. Он приехал на следующий день. Узнав об этом от Малки, я понял, что выдохся, и идти туда у меня уже нет сил. Я не хочу его видеть. Не потому, что он сделал мне что-нибудь плохое, а потому что между нами слишком много запретных тем. Он скажет мне, что не живи я в Кирьят Арбе и не работай в Кармей Цуре, Офира была бы жива, что она своей жизнью заплатила за мой гонор и право-поселенческие выкрутасы. Я готов это выслушать, но в любом другом месте, кроме кладбища. Это странное сочетание показного фанатизма и тщательно скрываемого опасения, что вера не достаточно крепка, что она не устоит под напором простых человеческих эмоций, часто встречается среди баалей-тшува. Это и заставило его расстаться с матерью задолго до того, как она умерла. Будь его вера крепче, никто бы не занял его место.