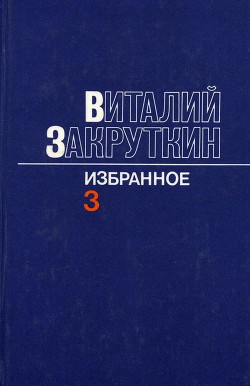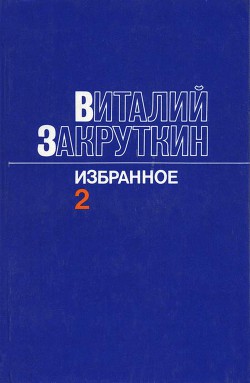— Что ж они, черти, не подберут своего раненого? — морщась от собственной и этой, чужой боли, с недоумением спросил Василь Олива.
— Боятся, потому и не подбирают, — отозвался Удодов.
— Тебе, Гурам, надо было добить его, чтоб человек не мучился, — сказал кто-то.
Кобиашвили вспыхнул:
— Как это добить? Ты что, с ума сошел? Или ты не советский человек? Советские люди не добивают раненых.
Степан Удодов сложил ладони рупором и, обернувшись к позициям противника, заорал, напрягая свои богатырские легкие:
— Э-ээй! Подберите своего солдата! Чуете?.. Тащите своего Ганса назад… цурюк! Не бойтесь, мы стрелять не будем… Никс файер! Чуете?
В ответ на его призыв хлопнул одиночный минометный выстрел.
Мина разорвалась неподалеку от пещеры, никого, к счастью, не задев.
— Вот тебе, Степан, никс файер, — сплюнув, сказал Егор Иванович. — Они, брат ты мой, отпетые, с ними по-людски не погутаришь… А как насчет завтрака? — обратился Ежевикин к девушкам, управившимся с перевязкой раненых.
— Кулеш готов, — доложила Ира. — Только жидковат, — добавила она, смущаясь.
— Что ж теперь делать… Вытряс я вчерась из всех мешков последние остатки крупы, — признался Егор Иванович.
Все уселись вокруг большой кастрюли, угрюмо принялись хлебать едва замутившуюся горячую воду. Сухарей больше не было. Над поредевшим, заброшенным высоко в горы отрядом занесла свою косу голодная смерть.
Оглядев угрюмые лица бойцов, Андрей сказал обнадеживающе:
— На падайте духом, хлопцы, майор Бердзенишвили не бросит нас на произвол судьбы. Какие бы снега ни преграждали путь к нам, он что-нибудь придумает…
К ночи снова усилился мороз. Над горами мерцали большие, яркие звезды. Адам Белевич, сменивший в боевом охранении Сурена Акопова, залюбовался ими, когда заскрипел снег под чьими-то шагами. Тревожно оглянувшись, он увидел Степана Удодова. Тот шел к нему в белом маскировочном комбинезоне с автоматом в руках.
— Куда тебя несет? — удивленно спросил Белевич.
Широкоплечий силач Удодов приложил палец к губам:
— Тсс! Не шебурши… Попробую проверить ранцы у покойных «эдельвейсов», царство им небесное. Не может того быть, чтобы там харча не оказалось. А ты, Адам, в случае чего огоньком меня прикрой.
Он беззвучно перебрался через гряду камней и исчез в темноте. На тропе не было заметно никаких признаков жизни. Раненый перестал кричать — то ли умер, то ли свалился в пропасть.
Прошел почти час томительного ожидания. Белевичу он показался бесконечно долгим. Только перед сменой с поста, в самую полночь, ему показалось, что по тропе кто-то ползет. Он вскинул автомат и тут же услышал приглушенный голос Удодова:
— Это я, Адам. Помоги-ка мне перекинуть через бруствер этого обмороженного дурня.
— Какого дурня? — шепотом спросил Белевич.
— Да фрица, — с досадой ответил Удодов. — Того самого, который верещал на тропе. Он живой еще, только обморозился.
Они вдвоем перетащили немца через камни. Потом Удодов бросил на заснеженную площадку несколько немецких ранцев, сказав при этом, будто извиняясь:
— Чего в них есть, не знаю. Не было времени смотреть…
Из пещеры вышел Андрей, спросил не без тревоги:
— Что тут происходит?
— Да вот Степан «языка» приволок и, наверное, кое-что из харчишек, — доложил Белевич.
Немца занесли в пещеру. Ежевикин засветил фонарь. Все увидели уже немолодого, сухощавого, спортивного телосложения мужчину с энергичным лицом и аккуратно подбритыми седеющими висками. Он лежал на полу пещеры, с затаенным страхом разглядывая окружавших его людей.
— По правде говоря, жалко мне его стало, — как бы винясь в содеянном, докладывал командиру отряда Степан Удодов. — Дополз я до него в темноте, слышу, стонет. Полумертвец, а за веревку страховочную ухватился так, что даже при моей силенке еле-еле удалось разжать ему руки…
Пока Ира с Наташей растирали безмолвного немца спиртом и поили его горячим чаем, деловитый Егор Иванович с помощью Синицына разобрал содержимое принесенных Удодовым ранцев и вслух подводил итог:
— Шоколада, значит, девятнадцать плиток. Сухих галет двадцать две. Каких-то консервов пять банок. Одеколона чи духов три пузырька. Бритвы-самобрейки четыре штуки. Носков шерстяных десять пар. Кальсон и сорочек теплых столько же. Книжечек записных две, в них чего-то понаписано, а чего, сам черт не разберет.
— Разберем, — отозвался Кобиашвили. — Я немецкий язык учил на «отлично».
Раскладывая извлеченные из ранцев предметы, Егор Иванович продолжал:
— Писем разных пять связок. Варенья чи повидла одна банка. Карандашей восемь штук. Флейта одна… Загнулся, значит, флейтист, — добавил он с сожалением, — а играл ведь здорово, красиво играл. Я, хлопцы, тоже маленько играю, потому оставлю флейту себе.
— Оставляй, Ежевикин, нам этот трофей ни к чему, — ответил за всех Синицын.
Обмороженный немец, над которым все еще хлопотали девушки, морщился от боли, тихо стонал, но внимательно следил за Егором Ивановичем. И когда тот развернул увесистый альбом, из которого выпали фотографии, весь напрягся, потянулся к нему, взволнованно залопотал что-то.
— Чего он там бормочет? — спросил Удодов.
— Говорит, что это фотографии его жены и дочери, — объяснил Кобиашвили, — просит не уничтожать, а отдать ему. Притом заверяет, что в нацистской партии он не состоял, по профессии архитектор, в дивизию «Эдельвейс» попал только потому, что увлекался горнолыжным спортом.
— Отдайте ему фотографии, — приказал Андрей, — а о дивизии «Эдельвейс» мы поговорим с ним утром, когда он придет в себя…
— Утром отдохнувший немец, сидя на кошме и положив на колени забинтованные руки, охотно рассказывал:
— Зовут маня Маттиас Хаак. Родился я в Трауштайне, на границе с Австрией, и сам наполовину австриец. Так же как почти все австрийцы, я не хотел войны. Хотел строить, а не разрушать. Но меня мобилизовали и отправили на фронт. Поверьте, господин офицер, я никого не убивал. У меня хорошая семья, и я всегда понимал, что значит потерять близких. Сейчас я понял это еще лучше.
— О вашей семье, Хаак, вы успеете рассказать, для этого у вас времени хватит, — перебил его Андрей. — А сейчас расскажите мне о своем отряде, ничего не скрывая. Откровенность пойдет вам на пользу.
Немец кивнул с готовностью:
— Яволь! Все расскажу. В нашем отряде тридцать пять солдат, один унтер-офицер и один фельдфебель. Командует отрядом обер-лейтенант Гертнер. Вооружение: три миномета, четыре ручных пулемета, у каждого солдата автомат. Отряду было приказано выйти на южные склоны Главного хребта, спуститься к морю в направлении города Зугдиди, юго-восточнее Клухорского перевала, соединиться там с отрядом гауптмана Тиле и следовать под его командой дальше.
— Очевидно, вчера или даже несколько раньше вы подумали, что тропа свободна, и решили, что пришла пора выполнять приказ? — спросил Андрей.
— Совершенно верно, — подтвердил Хаак, — вчера обер-лейтенант Гертнер сказал, что впереди никого нет. Мы выступили под командой фельдфебеля Утца. Нас было шестнадцать человек. Остальных должен был повести сам обер-лейтенант…
Так же охотно Хаак сообщил все, что знал о горнострелковом корпусе генерала Конрада. Сказал, что именем Рудольфа Конрада немцы уже успели назвать один из занятых ими перевалов в Приэльбрусье. Говорил о тактике альпийских стрелков, выучке, об их настроении, обо всем, что, по его мнению, могло заинтересовать сидевшего перед ним советского офицера с мрачным, усталым лицом.
Мрачным же Андрей был потому, что его беспокоила судьба своего отряда. Скудных продуктов, добытых в ранцах немецких солдат, при самом строгом распределении хватит всего на четыре дня. А что делать дальше? Бойцы уже и теперь ослаблены недоеданием: стараются подольше лежать без движения, в боевое охранение выходят пошатываясь, на посту стоят, опираясь плечом о скалу.
Стал сдавать даже крепыш Удодов. Зорко следя за тем, как Егор Иванович, по-снайперски прищурив глаз, резал давеча финским ножом очередную шоколадную плитку и располовинивал черствые галеты, он откровенно сглатывал слюну. Но при этом все же потребовал: