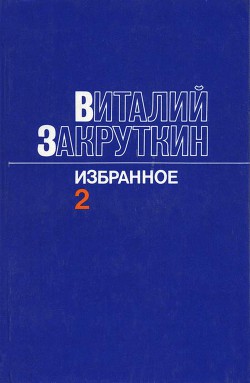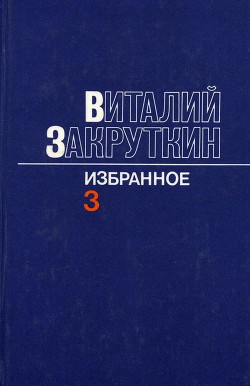«Она чувствовала это, она не хотела рожать, — в отчаянии думал Андрей, — и, если она умрет, я буду виноват… я никогда не прощу себе этого…»
Его мучительное состояние усугубила соседка по квартире, немолодая женщина с тонкими злыми губами, жена работавшего вместе с Андреем агронома. Хотя Ставровы не успели побывать у соседей и только здоровались с ними, встречаясь на лестничной клетке, те знали о беременности Ели, а любопытная соседка точно определила даже время родов.
Тихонько постучав, она приоткрыла дверь, поздоровалась с лежавшим на кровати Андреем и сказала, жалостливо покачивая седой птичьей головкой:.
— Увезли Елену Платоновну? А вы, бедненький, маетесь? Еще бы не маяться! Это дело такое. Бог знает чем еще может кончиться. У меня вот сестра меньшая никак не могла разродиться. Операцию ей делали, страшную операцию, называется кесарево сечение. И ребенка несчастного на куски порезали, а кусочки щипцами вытаскивали, и ее, сестру мою, не спасли, на четвертые сутки умерла от заражения крови…
— Убирайтесь вон! — крикнул Андрей. — Как вам не стыдно?
Соседка испуганно попятилась, выскочила из комнаты, с грохотом захлопнула за собой дверь и уже за дверью прошептала:
— Нахал…
Весь день Андрей ничего не ел. В обеденный перерыв к нему забежали Каля и Гоша. Посматривая на измотанного брата, у которого осунулось и потемнело лицо, Каля торопливо убрала комнату, слегка потрепала Андрея за волосы:
— Не журись, казак. Все будет хорошо.
До вечера Андрей еще два раза ходил к родильному дому. Он подолгу сидел на скамье, курил, смотрел на заветные окна, зашел в приемную, и та же пожилая женщина, которая увела Елю, сказала ему:
— Вы не ходите зря. Сегодня у нее ничего не будет…
Андрей ушел, до темноты бесцельно бродил по городу, чтобы только не возвращаться в опустевшую комнату, а вечером снова сидел на бульваре, поглядывая на освещенные окна родильного дома.
Спал он плохо, ворочался, стонал и, едва дождавшись рассвета, кинулся туда, к дому с белой вывеской. Но ему опять сказали, что никаких изменений нет. На службе Андрей ничего не мог делать, перебирал какие-то сводки, цифры рябили у него в глазах.
И вот наконец в обеденный перерыв, когда он пришел на бульвар и в изнеможении сел на скамью, из родильного дома вышла женщина в белом халате, подошла к нему и улыбаясь протянула листок бумаги. На листке, вырванном из маленького блокнота, было написано странно изменившимся Елиным почерком: «Ты был прав. Родился сын…»
— Поздравляю вас, — сказала женщина, — парень родился хоть куда! И у мамы все благополучно, так что не беспокойтесь.
Андрей вскочил, обнял женщину, быстро пошел по бульвару, сам не зная, куда и зачем идет. Сердце его билось так, будто он не шел, а бежал по трудной дороге, радость горячей волной хлынула ему в грудь, она словно поднимала его, несла куда-то вверх.
На бульваре, у подъезда гостиницы, сидели цветочницы. Андрей купил целую охапку белых, обрызганных водой роз, вернулся и передал Еле с короткой запиской: «Счастлив. Поздравляю. Скучаю. Жду…»
Теперь он ежедневно приносил Еле шоколад, печенье, банки с компотом, все, что мог достать в скудных городских магазинах. Истосковавшись в ожидании Ели, он стал считать не только дни, но и часы.
И вот наконец уже знакомая Андрею женщина в белом халате сказала ему:
— Завтра вы можете забрать своих жену и сына…
Еще с утра Андрей уложил в чемодан Елину одежду, договорился с извозчиком и поехал за Елей. Ждать ему пришлось довольно долго. Еля вышла бледная, но губы ее улыбались. Женщина в белом несла укутанного в одеяльце ребенка.
— Ну, молодой отец, любуйтесь сыном, — сказала она.
Андрей отвернул угол одеяльца и увидел розовое сморщенное личико с едва заметными белесыми ресницами и таким же белесым пушком на висках. Закрыв глаза, посапывая и сладко причмокивая надутыми губами, сын спал.
— Дайте его мне, — замирая от восторга, любви и жалости, попросил Андрей.
Боязливо и осторожно он взял сына, вынес на улицу. Еля шла рядом. Они сели на линейку и поехали вдоль бульвара. Был ясный летний день. Вовсю светило июньское солнце. Зеленели густые кроны деревьев. Ладно постукивал копытами рыжий, с блестящей, начищенной шерстью конь. Мягко шуршали резиновые шины линейки.
Андрей смотрел и не мог насмотреться на бледное, такое милое и дорогое для него лицо жены, прижимал к себе сына, и на душе у него было ясно и светло, так же как ясно и светло было вверху, в чистом голубом небе, отраженном сверкающей гладью могучей, вечно стремящейся к морю реки.