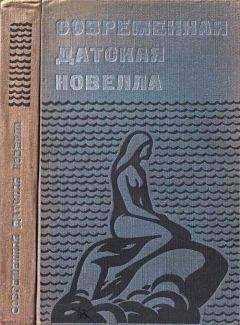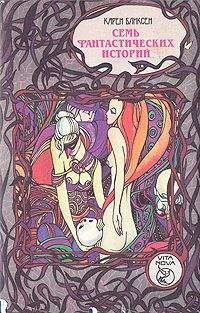— О, ты даже не представляешь себе, — шептала она в безумном волнении, — что это значит, когда тебя любили со всей силой страсти, самого гордого, что есть в мужчине, а под конец любят только из жалости. Вот и ты, — неподвижный, ненавидящий взгляд остановился на лице дочери, — вот и ты любишь меня из жалости. Ну, сознайся, ну, скажи правду.
Ульрика продолжала молча ласкать ее.
Словно тени облаков скользят по глади вод, так и в ее уме скользнула мысль о людских горестях. В материнских жалобах, изливаемых у нее на груди, она услышала и отзвук плача своей маленькой дочери час назад, и мрачный монолог Эйтеля в лесу, а на какое-то мгновение до нее долетела из дальней дали, из тюремной камеры непокорность и боль ее товарища по детским играм, ныне приговоренного к смерти. Казалось все, решительно все горюют и терзаются страхом. Разве в мире много такого, о чем следует горевать, чего следует страшиться? Разве смерть всегда неразлучна с горем и страхом? Первый раз в своей жизни она задумалась о том, что и сама должна однажды умереть. И ей почудилось, будто все, кого она знала, беспомощно и обреченно стоят на краю высокой скалы, у подножья которой темным бездонным морем раскинулась смерть, меж тем как для нее это всего лишь мелководье, по которому она может с легкостью пройти, чуть приподняв юбки. «Ну и дуреха же я, — подумала она, — какие мне глупости лезут в голову».
— Ах, мамочка, какая же ты у меня глупенькая, — проговорила она, снимая руку матери со своей шеи. — Ты и теперь все так же прекрасна, ты похожа на богиню, на Юнону, как и тогда, когда была похудей. Идем же. Ты просто слишком туго зашнурована, дай я развяжу этот узел и освобожу тебя.
Шелковый шнур словно сдерживал до этой минуты глубокие морщины на лице старушки, а теперь, когда дочь его выдернула, они медленно разгладились, и едва заметная, почти детская улыбка пробежала по ее лицу. С прекращением физической боли ослабела и сердечная мука, и надежда прихлынула к щекам, как свежая кровь. О, ей еще суждено быть любимой в этой жизни!
Она вновь поднесла к губам руку Ульрики и расцеловала каждый палец. При этом она молчала, попытайся она заговорить, ей бы не сдержать слез.
— О моя милая, прелестная мама! — сказала Ульрика. — Если бы мы с тобой снова надумали искупаться в речке, там, где она делает поворот, — как купались однажды, помнишь, я была еще маленькая? — то пять плакучих ив снова склонились бы перед тобой, как и в тот раз, чтобы поцеловать твои белые плечи. Взгляни, — продолжала Ульрика и, отколов цветок от своей кружевной накидки, прикрепила его к нелепому зеленому корсажу матери, который заставил престарелую красавицу проливать такие горькие слезы, — этот цветок передал мне старый Даниель. Он вывел новый сорт, и на всем острове ни у кого нет ничего подобного. Он просит твоего разрешения в твою честь назвать цветок «Сибилла», потому что он такой большой и красивый и яркий. А теперь взгляни на себя, взгляни на «Сибиллу». Она куда больше схожа с тобой, чем отражение в глупом, мертвом зеркале на стене.
Полмили от леса до своего двора Эйтель проскакал прямиком по стерне. Когда началась его земля, Эйтель пустил лошадь галопом и заставил ее перепрыгнуть через несколько стогов. Он огляделся по сторонам. Уже начался отлет уток, и тонкие линии низко прочертили небо, большие бледно-розовые облака громоздились над горизонтом, а совсем вдали темно-синяя полоска обозначала встречу неба с морем.
Мысли его все еще оставались в лесу, как форель удерживается в реке между двух камней благодаря едва заметному движению плавников.
Он припомнил, как два года назад, вскоре после первого свидания они в порыве исступленной страсти предавались несбыточным мечтам о том дне, когда ее старый муж сойдет в гроб, и тогда они, у которых обманом вырвали счастье, соединятся перед лицом всего света. Сейчас он уже не знал, станет ли счастливее, чем сейчас, если этот день наконец придет.
В их тайной близости была такая бесконечная сладость. Любить ее, мнилось ему, — все равно что омывать лицо и руки, все равно что купаться в ласковом, ясном ручье, который обновляется каждое мгновение, и куда как хорошо, что и путь к этому ручью, и сам ручей надежно скрыты под сенью листвы.
Завидев высокую крышу и изогнутые фронтоны своей усадьбы, Эйтель пустил шагом потную лошадь. Он избрал не широкую липовую аллею, ведущую во двор усадьбы, а тополиную, ведущую к конюшням. Овсяная солома и колючие ости, что нападали, когда убирали овес, лежали здесь, затоптанные в глубокие колеи, либо торчали из тополиных ветвей там, где их задел проезжавший мимо воз.
В самом доме лучи предзакатного солнца падали сквозь окна в длинную библиотеку, напомнив ему, как послеполуденные лучи, пробиваясь сквозь листву, озаряли то место в лесу, где они сидели. Темные полы начинали светиться под этими лучами, золотые рамы портретов нежно поблескивали, краски дорогих пород дерева и штофных обоев оживали, делаясь похожими на лесной мох и листву. Этот нежный свет был ее прощальной, трепетной улыбкой, ее любовью там, вдали, был тайным обещанием новой встречи. Потом свет угас.
Назавтра вечером он ждал к себе друга из Копенгагена, человека много старше, чем он сам, и весьма сведущего как в земледельческих проблемах, так и в вопросах крестьянского блага, весьма занимавшего и его собственный ум. Он мысленно представил себе их завтрашний разговор, а потому, отужинав, приказал его не беспокоить, затем снял с полки несколько увесистых фолиантов, чтобы еще раз пробежать те вопросы, о которых они непременно будут говорить. В нише окна еще можно было читать при остатках дневного света, он и устроился там, положив одну книгу на колени, а другую — на подоконник.
Покуда он читал, явился его молодой слуга, немец, вывезенный им из Ганновера, он внес канделябр на три свечи, подошел к нему и сказал:
— Там дожидается одна особа. Она просит разрешения переговорить с милостивым господином.
Хозяин не поднял глаз.
— Поздно уже, — проронил он.
— Я сказал то же самое. Но эта особа пришла в крайней поспешности, пешком и не хочет меня слушать.
Его господин захлопнул книгу, но еще некоторое время сидел молча.
— Ладно, впусти, — сказал он наконец.
— Это женщина, милостивый господин, — добавил слуга. — Звать ее Лоне Бартельс. Ваша экономка ее знает. Она уже бывала здесь.
— Женщина? — переспросил Эйтель. — Лоне Бартельс? Пусть войдет.
Потом он услышал, как старая экономка вполголоса разговаривает с кем-то за дверью, и тотчас его гостья оказалась в комнате.
Она дважды поклонилась у самого порога, но дальше не пошла. Одета она была не как крестьянка, только ее волосы покрывал белый платок, а на животе был повязан черный передник, под которым она прятала руки. Она была грузная женщина с бледным, как бы припудренным мукой лицом, дьячкова жена, которой не приходилось надрываться на работе. И эта женщина в упор смотрела на него.
Он испытал мгновенное чувство облегчения, может быть, даже счастья, услышав имя своей поздней гостьи. Но теперь, когда он глядел в глаза Лоне, его, вопреки природному благоразумию и здравомыслию, вдруг охватил такой мистический ужас, такой неодолимый страх, что волосы зашевелились у него на голове. Перед ним стояла не скорбящая мать, которая пришла просить милости для сына. Нет, это древние, темные, давно забытые времена, это сама вечность и сама судьба переступила порог его комнаты.
Он был потрясен собственным потрясением. Лишь после долгого, глубокого молчания он шагнул навстречу женщине. И поскольку свет теперь не разделял их, он узнал лицо, которое знал и любил некогда превыше всех человеческих лиц. Не сознавая толком, что делает, он обнял ее и прижал к себе. Он ощутил ее крупное, мягкое тело и запах ее платья, словно не далее как вчера дремал у нее на груди.
— Вот ты и пришла ко мне, Лоне, — сказал он и сам удивился собственному голосу, который звучал как голос чужого человека, как голос младенца.
— Да, — ответствовала женщина, — вот я и пришла.
Она говорила совсем как раньше, тихо и протяжно.
Оба поглядели друг другу в лицо.
— Хорошо, что ты пришла.
Она не сразу откликнулась.
— Я очень хотела повидать вашу милость…
— Нет, Лоне, — перебил он, — не называй меня вашей милостью, говори мне «ты», как говорила в былые дни.
Нежный, слабый румянец залил бледное лицо. Но ни один мускул на нем не дрогнул. Крепко сжатые губы, ясные глаза.
— Как тебе живется, Лоне? — спросил он.
— Мне живется хорошо, — ответила она и глубоко вздохнула. — Вот я снова вижу тебя.
Родное, детское «ты» тронуло его сердце. Он понял свой ужас при ее появлении. Ведь именно она, он это разом вспомнил, именно она рассказала ему историю про его отца и про Линнерта.
А не может ли она и теперь оказаться тем человеком, с помощью которого ему удастся исправить содеянное некогда, хотя он и не представлял себе, как именно. Опять он стоял перед ней молча, и так же молча стояла перед ним она. Он был бы рад хоть несколько минут поговорить с ней так, как говорил некогда, будучи ребенком, прежде чем дать ей возможность произнести имя своего сына.