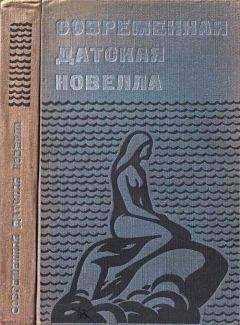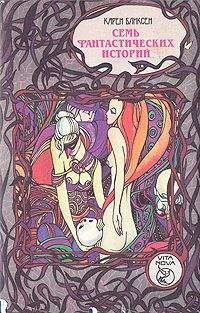— Да, — подтвердил Эйтель, — за десять лет до моего рождения.
— Тогда с чего ты вдруг сегодня вспомнил об этом?
— Могу объяснить, — сказал он. — Я сегодня вспомнил об этом, так как утром мне сказали, что внук этого самого Линнерта, сын его дочери, был осужден за убийство одного охотника и его сына и будет казнен завтра поутру в Марибо.
Она содрогнулась, услышав эту кровавую весть.
— Бедняга, — промолвила она и чуть погодя спросила: — Но при чем здесь твой отец и тот крестьянин?
— Тогда слушай дальше, и ты поймешь, при чем здесь мой отец, и крестьянин, и я сам.
— Как тебе известно, — продолжал он, — моя мать была добра и мягкосердечна и приветлива по отношению ко всем. История эта причинила ей немало горя, хотя все произошло за десять лет до того, как она стала женой моего отца. И вот когда на свет родился я, дочь Линнерта как раз осталась вдовой с грудным младенцем на руках, потому что крестьяне, они ведь рано женятся, и Линнерт был уже десять лет женат, когда умер. Тут еще матери вспомнилась старая история, и она велела привести эту женщину, Лоне, которой тоже было девятнадцать лет, как и матери, и взяла ее в кормилицы к своему ребенку, то есть ко мне. Я слышал рассказы о том, как дворовые женщины предостерегали мою мать, они боялись, что Лоне может припомнить смерть своего отца и поквитаться на сыне моего отца, моя же мать отвечала им, что слишком полагается на добрые начала в человеческой натуре, чтобы бояться чего-нибудь подобного. Сказано было красиво, но того красивее, что ей так и не пришлось разочароваться в своей вере. Помнишь, я говорил тебе, что однажды, давным-давно, любил одного человека. Я думал как раз об этой женщине, о Лоне.
— Она еще жива? — спросила Ульрика. — И не из-за нее ли, этой бедной женщины, ты сегодня так встревожен?
— Да, она жива, — ответил Эйтель. — Мне это известно. Она оставалась у нас в усадьбе, пока мне не сровнялось семь лет и для меня не пригласили учителя. Тогда она вышла замуж за дьячка из их местности, а потом они переехали на Фюн. Да, разумеется, я встревожен из-за нее.
Но теперь я расскажу тебе, что было дальше, — продолжал он. — Моя мать хорошо относилась к Лоне. Та всегда была красиво одета, у нее была хорошенькая комнатка, рядом с комнатой экономки, и из всей нашей дворни мать больше всего ценила Лоне, а Лоне по мере своих сил отвечала на ее доброту. Думается мне, что обе эти молодые вдовы, госпожа и прислуга, были по-настоящему преданы друг другу. Рассказывают, что, когда моя мать умерла, Лоне за целую неделю не произнесла ни слова, так глубока была ее скорбь. И мне Лоне была предана всей душой. Материны подружки могли прикусить язык: когда я подрос, стал большой и сильный, они объявили, что молоко Лоне тому причиной, сила Линнерта, которую она с молоком передала вскормленному ею ребенку, и что дайте срок, я еще поскачу верхом на быке. Она всегда была рядом со мной, потому что мать по слабости совсем не могла мною заниматься. В своих снах я видел Лоне большой наседкой, которая укрывает меня теплыми крыльями много лет подряд, много долгих добрых лет. Она сидела у моей кроватки, если я болел, варила свои микстуры, когда горькие, а когда сладкие, рассказывала мне старинные предания и пела песни. Потому что у них в роду это велось испокон веку, молодые мужчины сочиняли стихи, а старые женщины помнили островные предания и легенды.
— Значит, мы оба должны сказать спасибо Лоне, — с нежностью в голосе произнесла Ульрика.
— Да, должны оба, ты и я. Но кроме нас в этой старой истории участвует еще один человек и ему не за что говорить спасибо. Ибо добрые годы моего детства были совсем не добрыми для родного сына Лоне.
— Для родного сына?
— Да, — ответил он, — для того, кто завтра в Марибо должен расстаться с жизнью. Не припомню, чтобы Лоне хоть раз произнесла его имя — его назвали по деду Линнертом. Но сегодня я расспрашивал о нем, и люди рассказали мне, что Лоне отослала его куда-то с глаз подальше, может, она боялась, при ее-то преданности, как бы близость родного сына не помешала ей честно выполнять свои обязанности. Короче, его сызмала определили подпаском в какую-то усадьбу к востоку отсюда, говорят еще, что крестьяне в этой усадьбе голодали, что их заедали вши. Позднее он стал учеником у одного охотника, и это сыграло роковую роль в его жизни, потому что у охотника он выучился управляться с ружьем и пристрастился к браконьерству. Говорят, из него вырос скверный парень, драчун и забулдыга. А кончилось тем, что он совершил убийство и загубил свою жизнь.
Вот ради этого парня, — продолжал Эйтель, — я вырыл нынче из земли старых мертвецов и привел их в лес, в наш лес. А может, они сами встали из гробов и последовали за мной, поскольку еще утром прослышали, что мой молочный брат вскоре к ним присоединится.
Ты однажды говорила, — после небольшой паузы добавил он, с горькой, едва заметной улыбкой, — что господь непременно кликнет меня на подмогу, когда захочет вершить справедливость на земле. Но теперь господь, похоже, решил доказать мне, что несправедливость, однажды совершенную, потом никогда нельзя исправить. Моя мать надеялась искупить несправедливость, когда взяла дочь Линнерта к нам в усадьбу и стала ее верным другом, но все добро, ею сделанное, сводилось к тому, чтобы отобрать материнское молоко у Линнертова внука. Лично я надеялся своей кровью, самой благородной кровью, какая только есть на свете, смыть ту кровь, что засохла под деревянной кобылой. А вместо того завтра под эшафотом в Марибо натечет лужа крови побольше прежней. Все эти годы, сознавая, что мой отец опутан канатами вины и греха, я ждал той минуты, когда он сможет сказать мне: «Хорошо, что ты снял с меня грех». Но разве теперь, скажи на милость, могут прозвучать эти слова?
— О Эйтель, — прервала его Ульрика, — нам многое не дано знать. Может, есть на свете другая справедливость, кроме нашей, вот она-то исправит наконец содеянное зло.
— Ты думаешь? — спросил он и чуть погодя добавил: — Я тебе еще больше скажу. Сегодня утром до меня дошел слух, что арестант сбежал из-под замка. И я был почти уверен, что он придет ко мне, чтобы предать проклятию моего отца. Придет ли он днем, придет ли он ночью, я повторю ему в утешение слова, которыми ты хотела утешить меня: может, есть на свете другая справедливость, кроме нашей, вот она-то исправит наконец содеянное зло.
И снова между ними воцарилось долгое молчание. В наступившей тишине они услышали, как по соседнему дереву торопливо стучит дятел.
— А я знаю человека, о котором ты говоришь.
Он сразу оторвался от своих мыслей и удивленно переспросил:
— Ты его знаешь?
— Да, — отвечала Ульрика, — мы с ним были добрыми друзьями. Я была подростком четырнадцати лет, а он жил у охотника в учениках. Я только теперь поняла, что это и был он, раз его звали Линнерт. В то лето я оставалась в усадьбе совсем одна, мама уехала в Веймар. И мы с ним часто бывали в лесу. Мы искали птичьи гнезда, еще он учил меня подражать крику кукушки, чтобы я могла ее подманивать, и еще подражать крику дикой козы. И никто на всем свете об этом не знал. Помню, как-то, подобрав юбки и взявшись с ним за руки, я прошла вдоль по ручью, от того места, где ручей ныряет в лес, до того, где он из него выбегает. Он был сильный мальчик, недурен собой, и у него были густые, шелковистые волосы. Как-то раз, — продолжала Ульрика, и ее голос потеплел от воспоминаний, — он упал с высокого дерева и до крови разбил себе лицо только потому, что не хотел выпустить из рук гнездо горлинки, которое нес мне. Мы пошли к ручью, чтобы он смог отмыть лицо, но вдруг ни с того ни с сего он упал, как мертвый. Я долго сидела в лесу, положив его голову себе на колени.
Нежный, задумчивый отсвет прошедших лет упал на ее лицо.
— Я поцеловала его, когда он очнулся. Кожа у него была гладкая-гладкая, как у меня. Я сказала ему: «Никогда не срезай волосы. И еще никогда не отпускай бороду».
Слова эти прозвучали так, словно она коснулась его лица цветком. К этому аромату примешалась едва заметная боль ревности. Он взглянул на нее, он вобрал в себя ее лицо и весь образ. Эти алые уста дарили ему сотни поцелуев. Но двенадцать лет назад одинокий, окровавленный мальчик тоже получил от них единственный поцелуй. Завтра палач в Марибо отрубит красивую голову, некогда лежавшую у нее на коленях, отрубит и высоко поднимет напоказ всему народу за густые, шелковистые волосы, которые не велено было стричь.
— Когда я думал, — заговорил он, — что для меня настанет время сказать: «Отныне искуплена твоя боль и твоя смерть, Линнерт», у меня в мыслях жил образ того человека, которого убил мой отец. Но ни разу прежде я не слышал о молодом Линнерте. А сегодня я говорю себе, что долгожданное время искупления так никогда и не наступит, что вместо того именно этот юноша произнесет надо мной свой приговор.