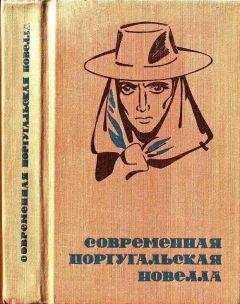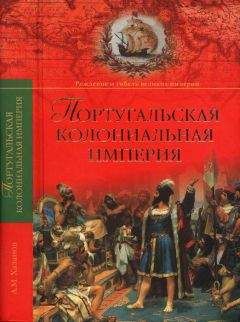Потому что весь этот очистительный огонь предназначался, по сути, моей душе в детском воротничке.
А я, к несчастью, уже постарел.
И мир тоже состарился вместе со мной.
(Только в отличие от меня ему не суждено умереть!)
IV
Чтобы повести атаку на школьные экзамены, нет необходимости заряжать мой пулемет холостыми пулями педагогики или вновь пережевывать старые аргументы, которые пылко отстаиваются защитниками детства.
С меня довольно воспоминаний. Стоит закрыть глаза, представить, что ты стал меньше ростом и завтра должен отвечать дрожащим голосом теорему Пифагора трем экзаменаторам во фраках.
Едва я об этом подумаю, как во мне закипает непреодолимое желание написать памфлет, а вместо заголовка поставить рвущийся из сердца крик: ОНИ МЕНЯ УНИЖАЛИ!
Да, они меня унижали.
Все, что расцветало в нас юного и прекрасного, никло, пораженное страхом.
Мы приходили на экзамены робкие, подавленные и впервые задумывались над тем, что многое в жизни приходится делать против воли.
На какое-то время мы переставали быть детьми, превращаясь в маленьких старичков. Мы уныло брели по улицам, и головы наши походили на кладовые, набитые до отказа всякими сведениями.
Сколько бы мы ни учились, наши умственные способности от этого не развивались. Зато чрезмерно развивались чувства, подымая на поверхность то, что бурлило в тайниках души, — лицемерие, ложь.
В наши головы силой вдалбливали килограммы знаний, а нас занимало совсем другое: прогулы, хитроумные выдумки и проказы, шпаргалки.
Мы с восторгом рассказывали друг другу:
— Такой-то написал доказательство теоремы на ногтях, представляете!
Вот это да!
— А другой попросил стакан воды, и надзиратель приклеил ко дну стакана бумажку с решением задачи.
Ловко придумано, черт возьми!
Вот чем мы развлекались по вечерам, изобретая самые невероятные предлоги для прогулов, придумывая всякие каверзы учителям и не слишком обременяя память случайными сведениями. Ведь уже в мое время школа являла собой огромный склад обреченных на забвение знаний.
Однако это еще не все. Хуже было то, что экзамены представлялись нам не логическим завершением учебного года, а досадной помехой, спектаклем, чем-то средним между судилищем и камерой пыток, и успешную сдачу экзаменов определяли вовсе не приложенные усилия, а цепь мелких случайностей, вмешательство судьбы.
Тому, кто обладал актерскими способностями, хладнокровно и самоуверенно отчеканивал свою роль у классной доски, бояться было нечего. Он брал в руки мел и, не задумываясь, показывал свой «номер» с небрежной ловкостью фокусника, извлекающего из карманов доверчивых зрителей всевозможные предметы.
А как же остальные? Робкие, заикающиеся, лишенные дара комедиантов, непригодные для выступлений в любительских спектаклях? Им оставалось лишь заранее обречь себя на унижение и, выйдя на сцену, пролепетать, запинаясь, свой монолог, сопровождаемый откровенными зевками учителей, выступавших одновременно в роли зрителей и в роли судей.
Долгие месяцы несчастные школяры пытались зазубрить множество определений. Наконец, отчаявшись, пристыженные и отупевшие, они взывали к чуду, умоляя неодушевленные предметы спасти их. Так погружались они в пучину суеверия, попадая в зависимость к таинственным предзнаменованиям, талисманам, амулетам, молитвам, заклинаниям, распятиям и крестным знамениям.
Я, например, никогда не отваживался ступать по черным камням тротуара. Даже торопясь куда-нибудь, я бдительно выискивал базальтовые плиты: не дай бог стать на одну из них!
Другие, проходя мимо трамвайной остановки, дважды украдкой стучали тыльной стороной ладони по деревянному столбу, чтобы отвести беду от себя.
Одним словом, все подлое, трусливое и малодушное пробуждалось в нас, и таившиеся в душе ростки страха пышным цветом распускались в безмолвной глубине наших глаз.
Все: трусость, равнодушие, подхалимство, липкая паутина покорности. Даже ненависть. Ненависть к книге! Ненависть к учителю! Ненависть к культуре! Ненависть к жизни! Ненависть ко всему на этой карикатурной планете людей с цивилизацией попугаев.
Вот почему экзамены были для нас роковым установлением, изобретенным только для того, чтобы заставить нас забыть то немногое, чему удалось научиться за год самому, вопреки скудости учебников и педантизму учителей, — твердости, честности, умению стойко защищать свои убеждения, презрению к суевериям, мужеству быть самим собой, героическому стремлению к будущему.
Но какое дело было до всех этих пустяков нашим преподавателям! Их интересовали лишь вызубренные параграфы из учебников, которые должны были заменить нам ум, сердце и душу.
(Тупицы! Никто из них даже не подозревал, что я украдкой пишу стихи!)
V
Вчера я бродил по Новым аллеям в поисках моего дерева. Того самого тоненького и слабого деревца, которое я посадил, когда мне было одиннадцать лет и в хаосе мироздания я еще не отличал небо от земли и бабочек от цветов.
Это было много лет назад, теплым солнечным утром. Накануне господин учитель предупредил нас:
— Не забудьте захватить с собой завтрак. Мы пойдем сажать дерево Свободы.
На следующий день я пришел в класс в нарядном костюмчике, с завтраком под мышкой и гимном «Посев» на устах, готовый принять участие в торжественной церемонии, окутанной пышным покровом тайны.
Мы построились в пары и во главе с господином учителем отправились к Новым аллеям. Тогда это был лабиринт только что проложенных улиц, без домов и прохожих.
Мы долго шли, уставившись в затылки тех, кто был впереди, и наконец остановились. Господин учитель хриплым голосом, который совсем не гармонировал с весенней прелестью утра, произнес речь. Он рассказал нам о растениях, плодах и птичьих гнездах, запретил нам стрелять в птиц из рогатки, засыпал нас цветами риторики и, потный от усердия, заключил свою краткую языческую речь ослепительной вспышкой фейерверка — велел нам спеть «Посев».
Мы охотно повиновались, взволнованные его гнусавым дребезжащим голосом, — ведь вместо того, чтобы заживо похоронить нас в мрачной комнате, напоминающей склеп, он говорил нам в тот день о свободе.
И мы принялись петь, вернее, горланить. Слова этого несправедливо осмеянного гимна слетали с наших уст; тридцать сердец, раскрытых навстречу весне, бились в унисон.
Потом каждый из нас с почти религиозным благоговением взялся за лопату и стал засыпать землей ямку, куда господин учитель опустил священное деревце.
Какое-то время мы усердно трудились и наши глаза сияли от счастья. Опьяненные запахом листвы и корней, мы с наслаждением копались в земле под раскинувшейся над нами синевой неба.
Я тоже старался изо всех сил. Кидал в яму комья земли, не замечая усталости. И когда наконец деревце было посажено, долго не мог отвести глаз от этого прутика, казавшегося таким одиноким среди шумной детворы, с аппетитом жевавшей бутерброды. Гордость и надежда распирали мне грудь. Я чувствовал, по-детски наивно и простодушно, как чувствовали в 1911 году все дети, что моя свобода навеки связана с этим деревцем, уходящим в землю своими слабыми корнями. Я чувствовал…
Но господин учитель положил этому конец. Он приказал нам строиться в пары.
И вот мы опять зашагали к школе, стадо подрастающих граждан, которые с точностью бюрократов исполнили свой патриотический долг: старательно пропели гимн «Посев» и бросили в могилу несколько горстей земли.
Больше меня к этому дереву никогда не водили. Не знаю, что с ним стало. Сколько раз я искал его, но тщетно! Я и теперь не могу его найти. Не узнаю его.
Дерево Свободы, где ты? Ответь мне, где ты? Проносится ли над тобой ветер? Обрывает ли буря твои цветы? Повесился ли кто-нибудь на твоих ветвях? Взмывают ли с тебя птицы в поднебесье? Дерево свободы, где ты?
А может быть, ты засохло?
(Я скажу своему сыну, чтобы он сажал его по-другому.)
VI
В пятнадцать лет мною овладело тихое помешательство. Я стал сочинять стихи на сельские темы, воспевая звуки свирели, хотя никогда их не слышал, деревенскую природу, хотя никогда ее не видел, и пейзажи, возникавшие передо мной только во сне.
Когда мне минуло семнадцать, в письменном столе у меня уже лежала тетрадка со стихами в ботаническом вкусе под названием «Лесные ирисы». Позже благодаря содействию восхищенной семьи моя книга в желтой обложке и с перепечатанными из газет отзывами снисходительных критиков красовалась в витринах книжных магазинов.
Она содержала сотни две страниц, вдохновленных парком Эдуарда VII, единственным уголком Лиссабона, где природа еще сохранилась нетронутой; я часто обращался к ромашке (цветку, которого никогда не видел), рифмуя ее с букашкой, и к другим, абсолютно мне неизвестным растениям, орудиям сельского хозяйства и прочим буколическим атрибутам.