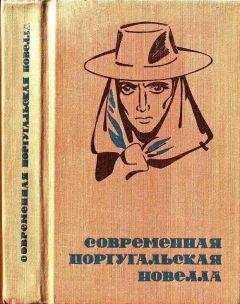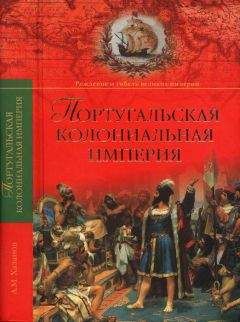Она содержала сотни две страниц, вдохновленных парком Эдуарда VII, единственным уголком Лиссабона, где природа еще сохранилась нетронутой; я часто обращался к ромашке (цветку, которого никогда не видел), рифмуя ее с букашкой, и к другим, абсолютно мне неизвестным растениям, орудиям сельского хозяйства и прочим буколическим атрибутам.
Но, уважаемые читатели, вы не знаете главного…
Несколько лет спустя после успешной публикации «Лесных ирисов» мы с приятелем отправились в загородное путешествие.
Уже тогда я решил изжить свойственную многим португальцам привычку говорить понаслышке о предметах и живых существах, не имея о них ни малейшего представления. Я уехал из Лиссабона, чтобы своими глазами посмотреть на мир — на деревья, утесы и валуны, на лесных зверей.
Мой приятель (теперь он преподает в лицее) взял на себя роль гида и принялся, как мог и умел, обучать меня своей смехотворной науке начинающего ученого.
— Смотри, вот это репейник! Ты его знаешь?
— Нет, — отвечал я в припадке самоуничижения. Я только знал, что репейник рифмуется с муравейником. А где же ромашки, те, что рифмуются с букашками?
Так пытался я придать реальное содержание живущим во мне нереальным созвучиям.
Как-то раз мы увидели в долине ярко-лиловый цветок.
— Что это? — с любопытством воскликнул я. — Никогда такого не видел!
— И я тоже, — смущенно признался мой товарищ по странствиям.
Минуту-другую он нервно теребил в руках цветок, раздумывая, что бы это могло быть. Наконец, кое-как скрыв свое замешательство, он сунул неразгаданную тайну в карман, решив определить цветок дома, с помощью справочника.
Прошло несколько дней, и вдруг однажды (боже мой, даже вспомнить стыдно!) ко мне врывается приятель и кричит истошным голосом:
— Ты знаешь, что это за цветок?
— Нет.
— Понятия не имеешь?
— Нет.
— Подумай хорошенько!
— Да, право, не знаю.
— Так слушай и только не падай в обморок. Это ЛЕСНОЙ ИРИС!
Когда я теперь вспоминаю об этом эпизоде и лихорадочно перелистываю злосчастные «Лесные ирисы», во мне возникает желание отыскать всех моих лицейских преподавателей, чтобы объясниться с ними начистоту и набить им морду. Да, именно, набить морду!
Потому что это они в ответе за все: за ромашки, за свирели, за репейник, рифмующийся с муравейником, за ирисы, рифмующиеся с чибисами, за мое незнание окружающего мира, потому что это они навязали мне ложное представление о том, будто бы прекрасное существует лишь в нас самих.
Это они заставляли меня вызубривать толстые учебники по ботанике и даже не удосужились показать мне живые цветы, как будто эти таинственные создания растут на другой планете.
Они перечислили мне все кости птичьего скелета, но я никогда не видел живого соловья и узнал о его существовании лишь из стихов Бернардина Рибейро[4].
Для них мир состоял из переплетений заученных слов, лишенных содержания звуков и образов, линий, абстракций и теорем, открытых неким гениальным астрономом применительно к одной из планет Солнечной системы под названием Земля. И все это нам приходилось зубрить наизусть, чтобы нас не оставили на второй год.
Мошенники!
Несмываемое пятно
Перевод С. Вайнштейна и Г. Туровера
Не беспокойтесь, доктор, я сейчас возьму себя в руки. Постараюсь взять себя в руки. Мне так не по себе, доктор, я-то знаю, что нездоров. Вся надежда на вас, порекомендуйте что-нибудь, дайте лекарство, просто пособолезнуйте, наконец, если излечить не в силах…
Два года, вот уже два года, как я терзаюсь… Молча, скрывая от всех свои муки и боль… Два года! Я не могу больше… Это наваждение, куда оно меня заведет? Выслушайте меня… Десять минут. Всего десять минут, не больше… Вот моя исповедь, будьте снисходительны. Нет, я не сумасшедший, пока еще нет. Только не думайте, что я выдумал эту историю. У меня есть доказательство, оно всегда со мной, страшное доказательство моей ошибки или моего преступления… Да, да, ошибки или преступления… Так слушайте. Был у меня друг, вы, доктор, помните, возможно, его, Норберто Майя, — вы знали его? Да, да, тот самый. Да и кто его не знал? Так вот, он был мой лучший, пожалуй, единственный друг. Познакомились мы в Генте, где вместе учились, он изучал право, я — инженерное дело. Не знаю почему, но привязались друг к другу — может, из-за того, что жизни у нас были разные, или характеры не похожи, интересы противоположны? А может, просто потому, что судьба нас свела в чужом краю, краю, который мы полюбили всем сердцем… Так или иначе, узы пылкой и тесной дружбы связали нас. Он был богат, а я беден как церковная мышь. Он сорил направо-налево деньгами, которые высылали ему исправно родители, а я, чтоб себя прокормить, подрабатывал, где только мог, и еле-еле сводил концы с концами, ведь от родителей мне досталась сущая безделица. Я был один на белом свете, ни родни, ни близких, он же всегда мог рассчитывать на помощь и поддержку состоятельной семьи… Когда учение закончилось, мне предстояло подыскать работу, и я возвратился в Португалию. А он пробыл еще некоторое время за границей, путешествовал и сорил деньгами родителей. Да, единственное, пожалуй, что он умел в жизни, — это сорить деньгами. Над жизнью он никогда всерьез не задумывался. Дела ничуть его не интересовали, да и диплом, который он засунул средь старых бумаг и писем на дно чемодана, был ему, по сути, ни к чему. К тому же, когда его родители погибли в железнодорожной катастрофе под Инсбруком, он стал наследником громадного состояния и распорядителем доли своей единственной сестры, она жила в имении Портела под Воугой… Сестра его была существо наивное, несведущее в мирских делах, мало разбиралась в том, что творилось вокруг. Воспитывалась она в Лериде, в монастыре. Когда брат посылал ей что-либо на подпись, она не задумываясь подписывала. Она знать не ведала, куда уходит наследство, но они и не делили его. Худший из недругов не распорядился б наследством так, как ее брат. За какие-то пять лет он промотал все. Путешествовал, играл в рулетку, пускался в умопомрачительные аферы, менял автомобили…
Я жил совсем в другом мире, постоянно в трудах и заботах. Он все чаще отсутствовал. Несмотря на разлуку, наша дружба не утратила искренности, пылкости. Из писем, из доходивших до меня слухов, от друзей и общих знакомых я знал обо всем, что происходило, знал об этом тайфуне, пожиравшем огромное состояние. Но я ни разу не решился написать ему по этому поводу хоть слово упрека, сунуться с советом или предостережением… Может быть, я напрасно не сделал этого, и, кто знает, не удалось бы тогда избежать стольких несчастий?.. С одной стороны, мне не хотелось лезть с советами, которых у меня не спрашивали, с другой — чего уж греха таить, доктор? — наверное, эгоизм… Я жил в нужде, хлеб насущный доставался мне в поте лица, и вообще — способен ли бедняк принять близко к сердцу разорение миллионера?..
Как-то на ночь глядя, эдак часов в одиннадцать, Норберто Майя вдруг объявился у меня в доме. Без предупреждения. Он вернулся из очередного своего путешествия. Неожиданное его появление не могло не удивить меня: ведь мы не виделись по меньшей мере два года. Каково? Он не произнес ни слова, просто вошел и сел, вернее, я бы сказал, рухнул на диван, сжал голову руками. Он явно был не в себе. Я подсел к нему и попытался по-дружески разговорить его.
— Что мне сказать тебе, — отвечал он, — все очень просто. Я нищ. От наследства, что мне и Жульете завещали родители, остались лишь дом да усадьба в Портеле. Все, все до нитки пущено по ветру, промотано, растрачено, заложено-перезаложено… Подлец я, подлец… Лишь сейчас я узрел, как низко пал и во что мне встали мои безумства. Я только что из Монако, пытал счастья в последний раз. Проигрался в пух и прах… Я обесчещен, а сестра… бедняжку я обрек на нищету. Да, да, я слабохарактерен, человек без руля и ветрил, богом позабытый… одним словом — ничтожество. Я не в состоянии пошевелить пальцем, собраться с мыслями… А как я обошелся с друзьями? Ведь вокруг меня ни души… И что будет с нею, если меня не станет? Бедняжка… О боже, как безумен я был! Одна, одна-одинешенька, без средств существования. Имению — грош цена. Управляли им никудышно, и теперь на доходы с него едва можно содержать прислугу. Положа руку на сердце, я не вижу иного выхода, как за все заплатить сполна!
И Норберто сделал многозначительный жест. В глазах у него стояли слезы. Признаться, до того я и представить себе не мог, как плохи были его дела.
Судорожно вцепившись в меня, он продолжал:
— Рикардо, ты мой единственный друг, ты один еще терпишь меня, ты единственный, на кого я еще могу положиться в этой жизни, к кому я могу обратиться. Прошу тебя, ради всего святого, что бы ни случилось, защити и охрани ее! Стань для бедной, несчастной сестры моей братом и другом, каким не сумел для нее быть я…