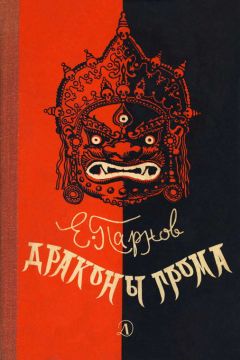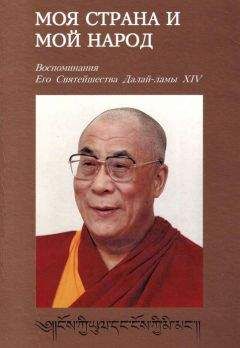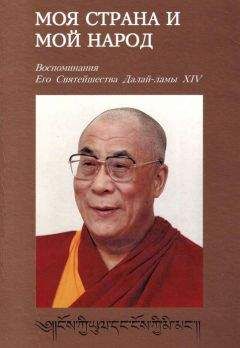Я заполнил специальный листок, где требовалось указать обычные анкетные данные и цель предполагаемого посещения первосвященника. Внимательно изучив анкету, управитель сказал, что его святейшество охотно встретится со мной, но это будет не ранее, чем через две недели, когда он вернется из дальней поездки.
— К сожалению, срок моей командировки заканчивается несколько раньше. — Я не сумел скрыть огорчения.
— Ничего, — управитель попытался утешить. — Вы родились в год Деревянной Свиньи, как и его святейшество. Звезды благоприятствуют встрече.
И она действительно состоялась — ровно через пять лет — в столице Монголии Улан-Баторе, куда далай-лама приехал, чтобы принять участие в Пятой Азиатской буддийской конференции за мир (АБКМ).
Гандантэгчинлин — внушительный комплекс храмов, монастыря и духовной школы, основанной в 1838 году, — сверкал свежей краской и позолотой наверший. Трепетали на ветру флаги пяти стихий, придавая происходящей церемонии некий надмирный, космический смысл. Обширный двор обегала ковровая дорожка, застланная желтой широкой лентой, символизирующей путь ламаизма, на который высокий гость ступил сорок четыре года назад.
В главном храме было не протолкнуться. Желтые, красные, красно-желтые сангхати монахов казались при ярком электрическом свете языками пламени. Ухали барабаны, звенели серебряные колокольчики, голоса лам, читавших священный ганчжур, сливались в однообразный рокочущий напев.
Он сидел у северной стены на высоком троне, принадлежащем хамба-ламе С. Гомбожаву, президенту АБКМ, главе монгольских буддистов, члену Всемирного Совета Мира. Перед ним стояли украшенная кораллами мандала — символ вселенской мощи, сосуд с амритой — напитком бессмертия, — заткнутый кропилом из павлиньих перьев. Сзади, освещенные лампадами, сверкали позолоченные фигурки богов, впереди выстроилась очередь лам с голубыми шарфами — хадаками — в руках. Это был одновременно и молебен, который служил сам далай-лама, и аудиенция, которую высший иерарх ламаизма давал монгольскому духовенству, связанному с его покинутой родиной давними и сложными отношениями.
Я следил за плавными и очень точными жестами далай-ламы и невольно любовался искусством и быстротой, с которыми он касался склоненных голов. В его прикосновениях ощущалась ласка и дружелюбие, его улыбка всякий раз была неожиданной и глубоко личной, словно предназначенной именно для того человека, который вручал в данный момент голубой шелк привета.
Как и другие, он был очень коротко острижен, его красное с желтыми концами монашеское платье открывало, по уставу, правое плечо как у Будды Шакьямуни на свитке, осенявшем «львиный» с пятью подушками трон. Смуглое, красивое, очень живое лицо, простые, чуть притемненные очки, и всякий раз, как нежданная вспышка, подкупающая улыбка на точеном скуластом лице.
На церемонии присутствовали только ламы, немногочисленные паломники и местные журналисты. Ни один иностранный гость, прибывший на конференцию, а тем более корреспондент, несмотря на все ухищрения, не был сюда допущен. Мне не стыдно признаться, что я испытывал суетную мирскую радость при мысли о том, что одно единственное исключение все же было сделано…
Я стоял в четырех шагах от трона, преисполненный ликования, жгучего интереса, словом, чего угодно, но только не смирения, как этого требовали обстоятельства, нет. Впервые посторонний, да еще заведомый атеист, открыто, не таясь, мог присутствовать на богослужении живого бога. Да и сам Четырнадцатый далай-лама молился на монгольской земле тоже впервые.
На другой день, выступая с трибуны, украшенной знаком скрещенных громовых стрел, он скажет:
— Чудесный цветок расцвел на прекрасной земле Монголии, издавна связанной с моей страной. Если мир станет высшей целью каждого человека, не будет войн на земле.
Познав войны и беды, он понял, что из всех высоких истин самая высокая — все же мир. Я видел, как служки бережно расправляли ту желтую ленту во дворе, на которую он должен был ступить, как разглаживали на ней каждую морщинку. Старый, согбенный лама, поддерживаемый с двух сторон, не решился даже выйти на воздух присесть, потому что не имел сил перешагнуть эту неприкосновенную трассу, на которой не мог быть оставлен ничей посторонний след.
Как все же разнятся отвлеченная аллегория и реальность. В жизни Четырнадцатого далай-ламы не часто выпадали прямые безоблачные пути. Разве что в раннем детстве, если только было оно у человека, рожденного стать богом.
Название «лама» дословно означает «небесная матерь» и толкуется как «выше нет». И действительно, ламы безраздельно главенствуют в сложной иерархии северного буддизма. Лишь где-то в самом низу под ними находятся божественные бодхисатвы, ужасные стражи веры, могущественные боги соседних народов, духи рек и духи гор.
Столь же строгой последовательности подчиняется и закон перерождений. «Магическое тело» будды или бодхисатвы — это нить, на которую нанизываются жемчужины человеческих воплощений. Наиболее чтимым божеством из разряда бодхисатв — существ, заслуживших нирвану, но оставшихся помогать людям, — является Авалокитешвара, перерожденцами которого и считаются все далай-ламы. Авалокитешвара, он же Арьябола, Львиноголосый и пр. — духовный сын «Владыки Западного рая» Амитабхи, одного из пяти мистических будд. Авалокитешвара сходит со священного лотоса на землю, чтобы уничтожить страдание. Он отказывается превратиться в будду до тех пор пока все люди земли не встанут на путь высшего познания. Священные книги говорят, что великий бодхисатва, «обладая могущественным знанием», замечает создания, осажденные многими сотнями бед и огорченные многими печалями. Поэтому он является спасителем мира, включая богов.
Дословно это имя переводится как Всматривающийся Хозяин, почему бодхисатву часто именуют просто Авалокита — Всматривающийся. Изображается он во множестве форм: и как обычный человек, и четырехруким (именно в этой форме он воплощается в далай-лам), и с тремя, пятью, шестью, девятью парами рук. Порой он предстает трехглавым, пятиглавым и даже одиннадцатиглавым.
Авалокитешвара олицетворяет милость и несет улыбку сочувствия. Тибетцы зовут его Шенрезиг — Белый и милосердный ликом, монголы — Хоншим, то есть Улыбающийся. Основной его цвет белый, цвет траура и сострадания. Сопредельный с Индией мир воспринимал большей частью лишь внешнюю сторону древней метафизики. Не изначальный буддизм, а красочную пышность махаянистского учения приняли в свои кумирни ламы Тибета, Бутана, Непала, Сиккима, Монголии и Китая. «Большая колесница» — так дословно переводится термин «махаяна» — достигла гималайских снегов в столь преображенном виде, что и сам творец Нагарджуна вряд ли бы узнал в ней свое детище. И управлял этой золоченой колесницей буддийский тантризм. Это тайная доктрина, о которой до сих пор известно немногое. Она исполнена мистическим стремлением к вечному блаженству, к слиянию с божеством, достигнуть чего можно якобы лишь изощренными духовными упражнениями.
Изначальная «малая колесница» сулила освобождение избранным, которые с помощью самодисциплины и медитации могли постепенно преодолеть личностное начало и вырваться из бесконечного круга страданий. «Большая колесница» уже существенно облегчала путь к нирване, призвав в проводники верующим небесных будд и бодхисатв. Тантрики же проложили третий, совершенно особенный путь. Ваджру — скипетр, изображающий молнию, они наделили магической силой, способной чуть ли не мгновенно разрывать цепи судьбы. Это была третья колесница буддизма: «ваджраяна», или «колесница громового раската».
Ужас перед мучениями на том свете сотни лет заставлял простых людей кормить и обслуживать тех, кто носил громовые скипетры. В монастырях была сосредоточена вся общественная деятельность: школы и типографии, в которых печатались священные книги, иконописные мастерские и литейные дворы, где изготовлялись бронзовые будды. Врачи, астрологи и тантрийские заклинатели, без которых нельзя было ни родиться, ни умереть, — тоже были ламами. Вся социальная система держалась на слепой, безграничной вере. Больше всего боялись пастухи, ремесленники и рядовые торговцы перевоплотиться в какое-нибудь отвратительное животное. Постоянная угроза перед низким перерождением заставляла их терпеливо сносить все тяготы жизни и ждать смерти как избавления. Существовала, впрочем, и еще одна вполне реальная сила: крупные феодалы, на которых работали тысячи крепостных. Государственные должности в Тибете, Бутане, в гималайских княжествах занимали всегда двое: лама (он был главным) и представитель одной из могущественных семей.
Монгольские завоеватели, особенно хан Хубилай, поддерживали влияние буддизма на души людей. Настоятеля самого влиятельного сакьянского монастыря сделали даже наместником императора. Точно так же поступали императоры Минской династии. Может быть, с той лишь разницей, что, проводя политику раздробления страны, они не давали одним монастырям усиливаться за счет других. Поэтому буддистские секты в Тибете множились.