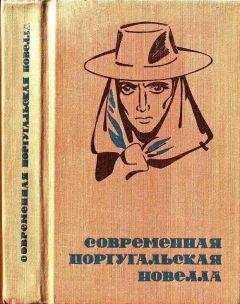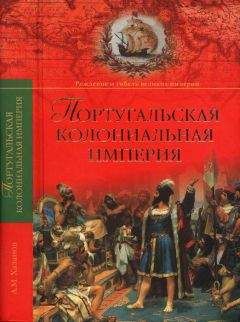— И ведь есть же люди, которым нравятся посты! Упаси боже! Разве доставил бы я высокочтимым сеньорам такое удовольствие, возясь с рыбьей головой?
Вместе с кофе появляется и сама сеньора Этелвина — принять участие в беседе. Только несчастная племянница моет в кухне посуду: слышно, как она со злобой грохочет тарелками и кастрюлями. Беседа идет обо всем на свете, словно за столом собрались домочадцы. Абилио расспрашивает о том, что случилось за этот год, кто родился, кто умер, о всех радостных и печальных происшествиях.
— Друзья у меня повсюду, но только в Формозиме я будто у родных.
— Истинная правда, сеньор Абилио. Сеньоры мне не дадут соврать: мы очень часто вас вспоминаем, — сочувственно вздыхает Этелвина.
— И я никогда не забываю ваших ужинов.
Общество погружается в молчание, приправленное легкой меланхолией. В такие минуты вспоминают о дружбе, об искренних душевных порывах.
— Вы уже не первый год приезжаете к нам, сеньор Абилио…
— Лет десять. Впервые я приехал на праздники.
— Тогда еще вернулся из Бразилии комендадор. Сколько денег истратил… Бездушный, жестокий человек… — Снова воцаряется молчание. Веки Абилио будто свинцом наливаются. Переел. Он протягивает руку к бутылке с водкой, наполняет рюмку, с вожделением выпивает, потом тяжело встает и гнусавит, зевая невероятно широко:
— Засим позвольте вас оставить… Устал за день.
Пока он идет к выходу, все стоят. Этелвина, схватив лампу, устремляется в коридор посветить. У дверей минутная остановка: прощание.
— До завтра, друзья.
— Пошли вам господь спокойную ночь, сеньор Абилио.
— И приятных сновидений.
— Да будет так.
Он вытягивается на свежих простынях, роняет голову на мягкую подушку и засыпает, не успев даже выключить свет. Всю ночь Этелвина на своей одинокой, вдовьей постели слушает, как он храпит с глухими долгими переливами. Храп сотрясает весь дом; так спят праведники.
На следующее утро, войдя в магазин Жулио, Абилио поднимает там, как обычно, крик и шум. Покупатели недовольно поглядывают на него, а он хватает сразу руки хозяина и хозяйки — Энрикеты, проводящей в лавке почти весь день: она помогает мужу отпускать покупателям товары и уходит, только чтобы успеть по хозяйству, надо же навести в доме чистоту, сготовить, управиться и в курятнике, и в свинарнике, и на огороде, — горячо пожимает их, приговаривая с веселой фамильярностью:
— Ну и парочка: баран да ярочка! — И, похлопывая Жулио по сухой и сутулой спине, повторяет свою любимую шутку: — Вот мне бы такую жену! Настоящее сокровище! В работе — помощница, в постели — утешница. Одно меня только удивляет…
Энрикета вспыхивает:
— Перестаньте, сеньор Абилио!
— То есть как это перестаньте?! Да это же преступление! О чем вы оба думаете: до сих пор не сотворили наследника?! А я-то давно мечтаю: настанет день, когда я запишу у себя в книжечке: фирма «Жулио Ребошу и Сын»; две штуки полотна, два метра голубого батиста и так далее, не знаю, что там еще полагается.
От тонких, почти прозрачных ушей до полной груди, округлые и твердые очертания которой угадываются за вырезом легкой блузки, Энрикета заливается густым, горячим румянцем. Это молодая, здоровая, цветущая женщина; руки у нее точеные и полные, кожа бело-розовая, она великолепна, радушна и ласкова. У черного худого Жулио кожа на лице изрыта глубокими морщинами, редкие усы свисают по краям рта и делают его печальное лицо еще более унылым. Однако он смущенно посмеивается, глядя на жену с робким чувством собственника, как смотрит, наверное, на полки с товаром или на деньги, которые подсчитывает вечером, выдвинув ящик стола.
— Я вам точно говорю, дети мои! Это грех! Ты, Жулио, еще не понял, что тебе нужен наследник? На руках у Энрикеты будет этакий бутуз!
— Времена нынче не те, чтобы заводить детей, сеньор Абилио.
— Те или не те — значения не имеет. Времена для этого все одинаковы, а ночью можно не только спать, ах вы, голубки мои невинные. Так вы еще не раскумекали…
— Вы уж скажете, сеньор Абилио…
— Сеньор Абилио всегда к вашим услугам: готов служить как верный раб и любить как нежный друг.
По обыкновению его ведут в глубь магазина: Жулио не хочет, чтобы покупатели даже догадывались о том, сколько он платит за товары и тем более сколько зарабатывает на разнице. Несмотря на то что весь разговор зашифрован, а цены обозначены буквами алфавита, Жулио очень опасается какого-нибудь пронырливого и дотошного сплетника. Есть такие, от которых трудно уберечься. Впрочем, душа коммерции — тайна; так всегда было, так и будет. Даже в задней комнате магазина, где мешки и ящики приглушают голоса, Жулио предпочитает говорить на условном языке, хотя опасаться здесь некого. Просто это придает их коммерческим операциям торжественность и таинственность. Первые десять букв алфавита обозначают цифры по порядку: 1 — это «a», 2 — «b» и так далее. Таким образом, если товар стоит 250 милрейсов, они говорят: b e j.
Абилио выкладывает на стол толстенные книги с образцами: тут и ситец, и тик, и полотно для постельного белья — словом, все сорта тканей, белые, как снег, и пестрые, как весенние сады. Жулио перебирает и щупает ткани, с видом знатока проверяет их добротность и прочность и потом, посмотрев на жену, словно спрашивая совета или интересуясь ее мнением (совершенно ненужное, кстати сказать, лицемерие, потому что она, бедняжка, лишена права голоса), задает сакраментальный вопрос:
— Почем?
Абилио заглядывает в книжечку в черном переплете и отвечает:
— Отдам за a b e, пять процентов скидки и по два процента каждые полгода. Товар дорожает, на рынке сейчас его мало.
— Ладно, две штуки.
— Бери четыре, Жулио, мой тебе совет. Через полгода будешь платить a e e — и не достанешь. Цены-то растут: лучше поспешить, чем опоздать. В кубышке деньги дохода не приносят.
Жулио с плутоватым видом чешет в затылке, потом смотрит на жену, которая сидит тихо, как мышь, и не может решиться.
— Ну, берешь четыре?
— Вы, сеньор Абилио, дьявол-искуситель в образе человеческом. А если залежится?
— Такой товар не залеживается в наше время. Это же чистое золото. — И он демонстрирует все достоинства плотной крепкой ослепительно белой ткани. — Даже не скажешь, что это хлопок, друг мой Жулио! Ну а если паче чаяния не продашь, сделаете пеленки для наследника, потому как я не успокоюсь и повсюду вас ославлю, если не займетесь этим как следует. А может, виновата Энрикета, о мой повелитель и друг Жулио?
Муж опять вяло фыркает, и опять краска заливает лицо и тяжело, как от обиды, дышащую грудь жены. Абилио с нагловатой нежностью смотрит на супругов и начинает сначала:
— Торопитесь, голубки, можете не успеть, скоро старость. Да и то сказать, неужели это так трудно?
— Перестаньте, невозможный вы человек!
Возбужденные нескромным разговором, они хохочут. Энрикета, скрестив на груди красивые руки, стоит неподвижно, ноздри раздуваются, словно вдыхая горячий и дразнящий аромат ее тела.
В окно врывается живой утренний луч, врывается и тут же гаснет на кучах мешков и ящиков с товаром. Рядом с этими людьми, которые толкуют о делах, жонглируют цифрами, Энрикета, покорная и в то же время высокомерная, выглядит странно. Абилио вдруг внимательно и быстро оглядывает ее с головы до ног. Она встречает его взгляд невозмутимо, как статуя или богиня, и он почему-то испытывает непривычную неловкость. Он же подшучивал над ней просто так, для смеха, и не стеснялся особенно в выражениях.
Сердце его начинает биться чаще, словно от волнения, в ушах шумит кровь. Он чувствует легкое головокружение, туман, как перед обмороком, застилает свет, и он слышит, как кто-то зовет его издалека, — это ощущение мимолетно и смутно. Когда он поворачивается, то снова встречает взгляд Энрикеты, направленный прямо на него. Глаза ее широко раскрыты и прозрачны, как прозрачна бывает вода, так что виден даже золотой песок на дне. И в этих глазах — новое, незнакомое ему, удивительное выражение. Внешне она совершенно спокойна, и только горячий румянец выдает бурю чувств в ее душе. Теперь он, кажется, понимает, чей нежный голос позвал его. Энрикета стоит в той же позе, сложив руки на крепкой груди, поднимающейся в такт ее дыханию; она словно обнимает себя, она, столько раз уклонявшаяся от его объятий. Яркий свет льется из окна, делает ее лицо прекрасным, обрызгивает золотом ее волосы, и кажется, они вот-вот вспыхнут.
Абилио чувствует что-то вроде испуга; ноги его словно прирастают к полу. Снаружи все громче доносятся голоса покупателей, недовольных долгим отсутствием продавца. Голос Жулио выводит их из этого оцепенения.
— Теперь что мне нужно…
Они словно просыпаются. Энрикета опускает руки, Абилио закладывает два листа копирки между страниц своей расчетной книги и молча записывает заказ под диктовку Жулио. Все случившееся кажется ему странным сном, смутным и далеким, неожиданной игрой воображения. Он озирается вокруг: все тихо и спокойно, словно ничего и не произошло. И Энрикета опять становится прежней: как всегда, застенчивой, незаметной, покорной. Она уже не походит на загадочную статую. Трудно было бы поверить в это превращение, если бы он не видел минуту назад собственными глазами — каким-то новым зрением — руки, обнимавшие ее тело жадно и безнадежно. Галлюцинация? И бездумно, машинально он записывает поручения Жулио, повторяя время от времени: