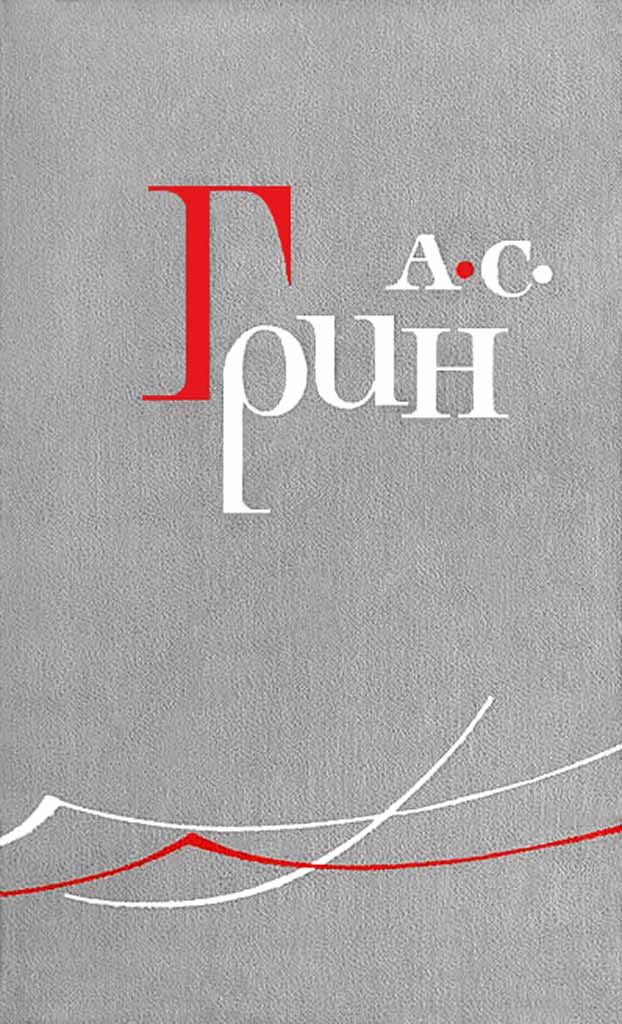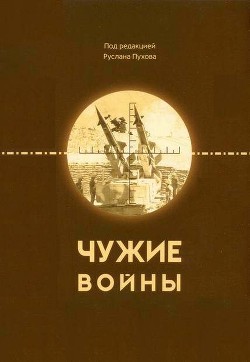мужикам, которых он не понимает и поэтому ненавидит. Сильно подавшись назад, он ударил наотмашь прикладом, а затем штыком двух передних. Мужики как-то болезненно охнули и подались в толпу.
— Братцы, родимые, бью-у-ут! — раздался не то крик, не то вой среди баб.
— Ура! — почему-то крикнул Василий, врываясь в толпу.
— Бей! — еще раз скомандовал офицер.
И началось побоище. Били зверски, били до изнеможения, до боли в суставах. Ад стоял на улице. Солдаты и избиваемые мужики смешались в одно… Били по голове, по животу, топтали ногами, наступали на лицо.
Зверь проснулся в человеке и запросил крови.
Крестьяне даже не оборонялись, только руки, инстинктивно протянутые вперед, говорили об ужасе, царящем в душе этих людей. Тяжело дыша, мокрые от пота, ослепленные свалкой, солдаты наносили удары направо и налево…
Многие женщины бились в истерике, другие рвались к избиваемым, но стражники, расставленные цепью в двух местах поперек улицы, не допускали их…
— На колени! — кричал становой.
— Отойди, довольно! — скомандовал офицер.
И люди, с автоматической покорностью бившие других, автоматически остановились.
Мужики стояли на коленях.
— Стройся! Равняйсь!
Опять выстроилась рота во всем грозном ужасе слепого, бессмысленного насилия. Василий, разгоряченный и возбужденный, чувствовал прилив решимости и отваги. Сейчас он готов был резать, стрелять, колоть, брать крепости…
— Слушайте же вы, сволочь! — обратился становой к крестьянской толпе. — Вы видите, что мы с вами делаем! Хуже будет! Все спалим, запорем до смерти! Баб ваших на ночь солдатам отдадим! Покоряйся! Кто зачинщики?
— Ваше высокоблагородие! — заговорил дрожащим голосом седой, сильно избитый старик. Кровь струилась по его лицу из рассеченной губы, и он ежеминутно утирал ее рукавом армяка. — Ваше высокоблагородие! Не бунтовщики мы! Нет у нас зачинщиков, от нужды ведь великой! Терпенья нашего нет…
— Что? Рассуждать? — взвизгнул чиновник. — Да нам нет дела до вашей нужды! Хоть все подохните! Подавай все награбленное! Иначе разговор будет короток!
— Вот что: даю вам три минуты на размышление, — сказал становой. — Потом будем стрелять…
Наступила тягостная, жуткая тишина. Крестьяне продолжали стоять на коленях, и унизительное положение придавало какое-то величие этим упорным труженикам. Печать правоты лежала на них, и сознание этой правоты, правоты дела, за которое они терпели, можно было ясно прочитать в их лицах.
Прошло три минуты… Офицер отступил на два шага назад и скомандовал:
— Р-рота, кругом — м-марш!
Ружья звякнули, рота повернулась и отошла на несколько шагов от волостного правления.
— Стой!
Остановились…
— Кругом!
Повернулись…
— Прямо по толпе, па-а-льба — р-ротою! Р-рота…
Все застыло… Удивленные крестьяне молча смотрели на солдат, не веря, что в них будут стрелять… За что?
— Пли!..
Треск залпа потряс воздух… Повалились убитые и раненые, судорожно хватая руками землю… Остальные в безумном ужасе бежали вдоль улицы… Стоны, полные безумного ужаса, огласили воздух. Все металось, бежало… Трупы лежали неподвижно, и алые лужи крови подтекали под них…
День прошел как будто в кошмаре. Солдат напоили водкой, и они, пьяные, с дикими песнями и криками носились по селу, избивая всех, кто подвертывался под руку в избах, на улицах, в огородах, куда прятались обезумевшие жители от произвола и разгула «гостей». Селу было объявлено, что если к полночи не будут исполнены требования начальства, оно будет сожжено. Несколько арестованных были высечены до полусмерти и заперты в холодной, где их бросили на голый пол без воды и пищи.
Перед вечером произошло событие, доставившее Василию унтер-офицерские нашивки и денежную награду. Проходя по околице, он увидел кучу парней, о чем-то разговаривавших. При виде солдата парни замолчали и, косо поглядывая на царского слугу, посторонились, не желая, очевидно, давать хоть малейший повод к скандалу. В то же мгновение из-за угла поперечной улицы выплыла вся компания усмирителей.
Впереди шел становой, в белом кителе нараспашку, лакированных сапогах и бархатном малиновом жилете, по борту которого вилась толстая золотая цепь. В руках у него была балалайка, и он лениво тренькал на ней, напевая какой-то романс. Сзади плелись ротный командир и губернский чиновник. Все трое были пьяны. Несколько солдат с винтовками конвоировало начальство.
В приливе усердия Василий кинулся на парней, желая отличиться в глазах начальства, и крикнул им, чтобы они убрались. Парни медленно пошли по улице, оглядываясь назад. К несчастью, пьяный взгляд ротного командира упал на одного из них, шедшего сзади и медленнее других.
— Эй ты, мужик, идиот! — крикнул он ему. — Как тебя — Петька, Ванька, Гришка! Беги! Беги, подлец!
Парень оглянулся и пошел быстрым шагом. Но это еще только более рассердило офицера.
— Беги! — заорал он, выхватывая револьвер. — Ты кто такой? — обратился он к Василию.
— Ефрейтор первой роты, четвертого батальона Василий Пантелеев, вашескродие! — отчеканил Пантелеев, вытягиваясь.
— Рубль на водку — подстрели вот этого мерзавца, что прогуливается! Вон того, видишь? Ну, живей!
— Слушаю, вашескродь!
Василий прицелился и выстрелил. Пуля ударила человеку в спину. Парень как-то нелепо взмахнул руками и, схватившись за голову, бросился бежать, но через 5–6 шагов упал и так остался лежать. Видно было только, как судорожно подергивались ноги. Остальные разбежались.
Офицер с минуту мрачно смотрел на труп, не двигаясь с места. Затем сказал:
— А ты, брат — стрелок! Будешь унтер-офицером! Молодец!
— Рад стараться, вашескбродь! — отчеканил Василий. Становой вдруг почему-то бессмысленно расхохотался и долго трясся, прижимая балалайку к груди. Чиновник подошел к убитому и, брезгливо кривя губы, потрогал его тросточкой. Потом — все ушли…
А ночью село пылало, охваченное огнем. Громадные языки пламени лизали крестьянские крыши, и черный дым высоко летел к небу. Тушить пожар было запрещено. Сонные и хмельные солдаты стояли возле каждой избы, и пламя кровавым блеском играло на их штыках. Горело крестьянское добро, плоды тяжелых трудов…
Жителей не было видно. Было светло и страшно, как на кладбище при свете похоронных факелов. Ни криков, ни стонов… Казалось, все слезы выплаканы, все груди онемели от мучительных криков боли и горя… Да и кричать было некому: кто бежал в лес, кто в деревню соседей, кто — лежал в мертвецкой, пробитый пулями солдата-крестьянина…
Первый рассказ Грина. Написан летом 1906 года и издан за подписью А. С. Г. осенью того же года в качестве агитброшюры для солдат-карателей. Весь тираж был конфискован в типографии и сожжен полицией. Автор до самой смерти считал свое первое произведение погибшим, однако в 1960 году один экземпляр брошюры был найден в материалах «Отдела вещественных доказательств Московской жандармерии за 1906 г.» (ЦГАОР).
Печатается по архивному экземпляру с исправлением явных опечаток.