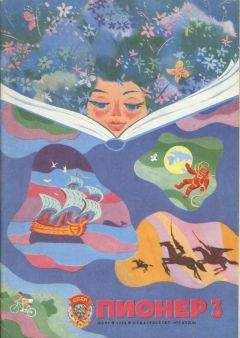«Совсем простые, но чувственные, — с удовольствием объяснял француз. — Экосез — это когда кавалер кланяется даме и ближайшему кавалеру, а дама следует его примеру, и, сделав круг, оба весело возвращаются на свое место».
Тогда немец вмешивался. «На той неделе урядник проезжал. Соседу из Севастьяновки сообщил, что в столице на отмели против острова Котлин государь заложил новую крепость в честь святых Петра и Павла, хочет загородиться от чужого флота…»
«А в менуэтах, любезная Марья Никитишна, — не слушал немца француз, — дамам предоставляется выбор. Кого хочешь, так и будет. А кавалер, кончивший танец с выбравшею его дамою, обязан в свою очередь выбрать другую даму и, протанцевав с нею, перестать, а дама продолжает танцевать с другим кавалером…»
«А еще говорил урядник, государь нынче ставит Адмиралтейство, желает флот завести. Говорят, башню поставил на реке Неве, на шпиле грозный кораблик…»
«А турки как же?» — вспоминала, пугалась тетенька.
«А турков замирят. Сперва побьют, а потом замирят. А новые башни обнесут высоким земляным валом со рвом и палисадом, с бастионами, обращенными к реке Неве, с корабельными пушками…»
Тетенька сжимала виски руками. У нее и с Нижними Пердунами никак не сладится какой год, а государю такая тяжесть — то турок, то швед, то католики нападают. Немец на раздумья Марьи Никитишны важно поднимал умную голову, он как бы отталкивал легкомысленного француза. Не о выборе кавалеров герр Риккерт говорил, а о новых зданиях, кораблях, пушках, якорях. О том, как ставятся для нужд армии и флота железные и оружейные заводы в Олонецком крае, как под страхом смертной казни запрещается рубить корабельный лес. Вон уже из Казанской и Нижегородской губерний сплавляют по Волге и ее притокам плоты, а в окрестностях высаживают новые дубовые леса. А для острастки ослушникам-порубщикам по берегам часто-часто расставлены виселицы с ясным пояснением, для чего поставлены.
«А хор запоет под флейты и барабаны…»
«А кораблям матрозы нужны, чтобы снасть ставить…»
Тетенька вздыхала, смотрела грозно, терла виски уксусом.
Отчаивалась. «Совсем запутали запугали еще дожди пойдут мужики балуются а вы про католиков турков да экозес и всякие менуэты в Нижних Пердунах контрданс не введешь если пороть даже каждого второго у них и без того коровы тонут в навозе Алёшу лучше учите ему многое надо знать…»
14.
Потом сосед с людьми набежал со стороны Нижних Пердунов.
Стреляли из ружей, напугали баб в старой Зубовке, трясли фруктовые деревья, сожгли анбар. Не зря, ой не зря за день до такого за окном тетенькиного дома в Томилине жаба ворковала страстно и червячок точил и точил в деревянной стене. Давно спать надо, а червячок точит и точит. Вот и сожгли анбар, потрясли фруктовые деревья. Конечно, посланные к старой Зубовке здоровые мужики цели не достигли: ушли виновные на лошадях.
На другой день француз Анри поехал править расспрос к соседу.
Видели, как завернул француз коляску за поскотину, а к вечеру того же дня Алёша заметил знакомую коляску всего верстах в трех от Томилина у старой риги. Распряженная лошадь тихонько себе паслась. Сквозь распахнутые ворота, к ним подойдя, Алёша неожиданно рассмотрел в смутной глубине риги, что француз не расспрос с соседями правит, а крепко держит в руках девку Матрёшу — бесстыдно, сладко. Алёшу всего насквозь пронзило жаром. Так пылал, когда с разрешения тетеньки кавалер Анри Давид читал стихи, неведомо кем сочиненные.
Часто днями ходит при овине,
При скирдах, то инде, то при льне;
То пролазов, смотрит, нет ли в тыне
И что делается на гумне…
Вот тебе и тын, и гумно, и пролазы.
В старой Зубовке анбар сожгли, а тут француз.
Нестройно грянули голоса в голове, что-то опять изменилось в мире.
Конечно, донесли тетеньке. Не Алёша, не в жисть, кто-то другой. И к обеду вторничного дня тетенька к обеду совсем не вышла. Бедной вдове кто поможет? Алёша не знал, конечно, о чем шепчутся в Томилине, но с испугом догадывался. Кто-то предполагал, что спустят теперь французика в солдаты. Будет ходить в треуголке, в зеленом кафтане с медными пуговицами. Правда, на среду Анри уехал по деревням советоваться со старостами, как пригреть соседа, напавшего на Зубово. Общего мнения не составилось, но тетенька и на другой день не вышла к обеду. Анри совсем загрустил, а немец загадочно усмехался, требуя от Алёши новых знаний. Неужто и меня за леность спустят в солдаты, пугался Алёша. Шел грустный с того проклятого овина, на этот раз рядом был Ипатич, но молчал, вздыхал о своем. Потом прислушался: «Слышь, поют?»
«Днем?» — удивился Алёша.
«Так, видно, тетенька приказала».
Алёша даже ускорил шаг. Как так? Неужто тетенька разрешила своему французу наконец построить хор? Вон как грустно, убедительно поют. «При долине куст калиновый стоял…»
Еще издали увидели круг людей понурых при анбаре.
Все стояли, только тетенька сидела на низкой скамеечке. Вся в темном, грозно перед собой смотрела. Алёша взглянул на Ипатича, а Ипатич на него. Неужто все-таки решилось с хором? — хотел спросить Алёша, но смолчал. А Ипатич другое подумал и тоже смолчал. Он французика не любил. Хитрости французика были ему не по нутру. Знал хорошо, что это не с хором решилось. Вовсе не так. Французик, похоже, девку Матрёшу совсем запутал, как паук, вот теперь Марья Никитишна его и строила.
Рядом с тетенькой сидел строгий немец.
Он свой долг выполнил, в нем удовлетворенность чувствовалась.
А в понуром круге людском кто-то на деревянной кобыле лежал, и слышались мерные шлепки влажного кнута. Алёша ближе протолкался, уж так складно, так чудно, печально пели. «На калине соловеюшка сидел…» Но не голую спину француза увидел. Увидел задранный сарафан, круглый зад, белый, округлый, с уже уходящими синяками. У Алёши будто перехватило дыхание. Тело круглое, вохкое, не прикрытое ничем. Горбатая Улька да низкорослая Дашка с мельницы держали девку Матрёшу, крепко прижимали к кобыле, а Авдотья, жена конюха, тоже низкорослая, лицо злое, стегала кнутом. И француз был в понуром круге, правда, не вместе с мужиками, а чуть в стороне. Вон как распустились, говорил его взгляд. Рано, рано в Томилине думать о менуэте или об енгленде.
«Горьку ягоду невесело клевал…» — тянул хор.
Ну совсем отбились от рук, вел, наверное, француз свои резонеманы.
Дикие пляски, дикие песни. Надо им, русским, много учиться пению. Вот девке кнутом по белому заду. Зачем бы? А не балуй. И тетенька, наверное, рассуждала про себя. Вот хотел хор построить Анри, теперь слушай, как хорошо поют. Не в утешение глупой девке Матрёше поют, а тебе в укор. Впредь учти. У меня в Томилине, думала, наверное, если секут, то за вороватость, за грубость, за нерадивое пение псалмов, а теперь вот за неправильную мечту, так что слушай, Анри, слушай русское пение. Не зря утром сумрачно сказала французу: «Простить не смогу, но смягчу».
И смягчила. Вот он, куст калиновый. Слушай, кавалер Анри Давид.
Когда тетенька поднялась с низкой скамеечки, Авдотья, жена конюха, остановилась с опущенным кнутом, но тетенька, не оборачиваясь, махнула рукой — продолжай. Хор от этого ее жеста запел еще печальнее, еще горше, ровными, чистыми голосами. Никто их этому не учил, само складывалось. Из-за пения никто, кроме Алёши, не расслышал, как Марья Никитишна в некотором раздумии произнесла вслух: «Поправит задницу, отдам за Ипатича. У него рука тяжелая, баловаться не даст».
15.
чяпь-чяпь
16.
Алёша уснуть не мог, все видел Матрёшу, уложенную на деревянной кобыле.
Мгла во сне плыла неясными пятнами. Как сквозь туман — бледность кожи, следы кнута. «Выдам за Ипатича». Как так? Матрёшу — за дядьку? «Поправит задницу, отдам за Ипатича». Как? «Хор, видите ли! Даже певчих не во всякий монастырь пускают, там и старицы хорошо поют, лишь бы вера была». Тетенька вся кипела. Тетенька трое дни не появлялась к обеду. Француз молчал, немец не говорил о славе русского оружия, а Алёша один убегал в лес, там плакал у мшистого пня, будто обманутый. Ненавидел француза, но стихи, когда-то им читанные, помнил дословно.
Вся кипящая похоть в лице его зрилась;
Как угль горящий все оно краснело.
Руки ей давил, щупал и все тело,
А неверна о всем том весьма веселилась!
Господи, помоги тетеньке. И сам не знал как.
Осина под ветром трепыхалась, как зарубленная курица.
У тетеньки полторы тысячи душ, даже больше. Они, конечно, Господни, но тела-то в тетенькиных руках! Хорошо помнил, чему обучали. «Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как пес огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин: для того не надобно им того попущать». Сейчас горько плакал у мшистого пня, утирал глаза рукавами. Мон амур. «Руки ей давил, щупал и все тело». Амбассер ма петит фема. Как такое можно? Вспоминал спокойные слова немца: «Басы временами напоминают звуки органа» — и вспоминал взволнованные слова француза: «А дисканты звучат волшебно». Почему все в жизни получается не так, как думаешь? Ипатич, рябой, как дрозд, скоро жить будет с Матрёшей. Как так? У мшистого пня плакал. И ночью в постели плакал. Думал: от всех этих известий все село, наверное, страдает. А утром, проснувшись, услышал за окном голос Матрёши — веселый, будто к новой жизни звала. А за обедом узнал, что в Томилино гость едет. Такой важный, что сердитая тетенька опять заперлась в кабинете вдвоем с Анри.