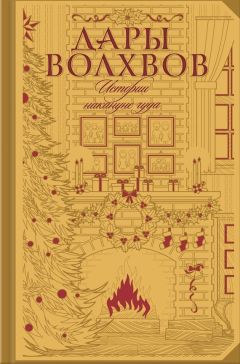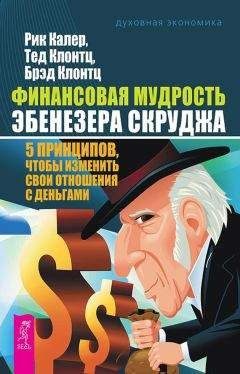– Побереги свои побасенки до другого случая, – возразил я, – мне, право, нет времени, да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.
Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленой, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск между перелесками заманивал нас то вправо, то влево… Вот-вот, думаешь, видна дорога… Доходишь – это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на всё и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленным и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время… Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.
Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, леденя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не окончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыт от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольчика, потрясаемого уздой, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой… Тишь и пустыня окрест!
Мой молодой извозчик одет был вовсе не по-дорожному и, не на шутку снедаемый холодом, заплакал.
– Знать, согрешил я перед Богом, – сказал он, – что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!
Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень вскрикнул с радостью:
– Вот он, вот он!
– Кто он? – спросил я, прыгая ближе по глубокому снегу.
Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был конский след. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.
Уверенность возвратила бодрость и силы озябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем по улице окоченевших членов, не оттер снегом руки и щеки, даже покуда не выводил коней. У меня ужасно замерзли одни только ноги, и потому, вытерев их в сенях докрасна суконкой, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.
Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низаных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому – разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между.
Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмеиваясь, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обернувшись лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонившись на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы… Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.
Слава Богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье,
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена;
А наместо глаз – дорогой алмаз!
Золотая парча развевается —
Кто-то в путь в дорогу собирается.
Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы лётом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.
Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя… Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.
– Да, изволишь знать, твоя милость, – примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, – теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом – не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапой на богатство, да и то сегодня хвостики прижали… Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.
– Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! – вскричало несколько тоненьких голосков.
– Чего полно? – продолжал Ванька. – Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают… словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристает: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.
– Нет, барин, – примолвил другой, – хоть россыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.
– И ведомо, – сказал третий. – Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.
– Полно брехать, – возразил краснобай. – Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых Святках?
– А что такое? – вскричали многие любопытные. – Расскажи, пожалуста, Ванюша; только не умори с ужасти.